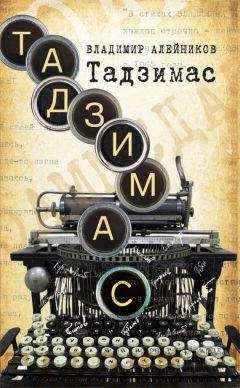Включив компьютер, я, пока он зажигался, пошел покурить на балкон. Курил в одних трусах, ежась. Мне опротивело, и я стал тушить цигарку о мокрый карниз. Но вдруг стало жаль цигарку, я судорожно ее раздувал. Внизу была мокрая грязь. Взирая вниз, я почти бросился. Я уже почувствовал эту грязь у себя под головой, грязь касалась моих щек, и я испускал последний вздох. Надо исследовать связь сигареты и самоубийства. Сигарета ввергает в тоску смертную. Непрерывный суицид в душе.
Я подумал о знакомых, кто что скажет.
— Шаргунов выбросился из окна, — скажут они, один спеша удивить другого, не «с собой покончил», а именно так: «выбросился».
Докурил — и кинул цигарку.
Вернувшись назад в комнату, я сел к уже заждавшемуся компьютеру. Я набивал строки. Передо мной сиял экран компьютера, светло-серый, как пасмурное небо, и черные птицы слов летали и щелкали все ниже и ниже, предвещая дождь… Я оторвался от экрана, высунулся в окно и опять задымил.
А ночью курильщик Сергей забылся сном. Меня донимал затяжной несвежий сон. Кусками все было очень правдоподобно. Снилась жизнь, с ее распорядком, со сменой дня на ночь. Трое друзей приснились — два мальчика, одна девочка — и уламывали меня на совместный суицид. Зачем это? Да вот захотели быть последовательны в своем трагизме. «Не в игрушки играть», — властно молвила девочка. Я не отказался, я им обещал подумать, энергично кивал, сам решив от них смыться. Помню из сна щемящие, щенячьи свои ощущения. Потом игра в прятки… И туман рассеялся. За окном синел вечер, звонит телефон, мне сообщили: все трое час назад повесились. Как завороженный выслушал я известие. Я ведь почти разделил с ними их участь. Но нет, они повесились — да, все трое. Уже простыл их след, остывали их тела…
Наутро (приснилось мне и утро) пришли другие знакомые, живые, и началось обсуждение. Длилась жизнь во всей ее красе, а где-то на втором плане безмолвно валялись трупы. Во сне я увидел их тайным зрением: пластмассовые манекены. И, звонко обсуждая случившееся, я думал: нелепая ошибка! Вы вышли, ребята, дураками. Вы бы уловили это, если бы воскресли. Такой сон. Удушливый сон. Дым сигаретный плелся над этим сном…
Читатель, разорви пачку, разом переломи сигареты. И наступай смело. Ни шагу назад, не оборачивайся. Гони вон из себя дымные полчища! Курить ну никак больше не хочется. Лену Мясникову поцелую чистейшим ртом!
Как я бросил?
А просто, шагая по длинной улице, понял: пора бросать. И, помню, задержал глаза на щитке с краю тротуара. Из серии: «Здесь могла быть ваша реклама». Изображение — не рекламное, а развлекательно-городское. Белолицый мальчик. Кроха, учится ходить, приветливая ручонка тянется, в глазах — пустота победы. И ярко-алая надпись трассирует: «А знаешь, все еще будет!» Я зверски усмехнулся. Сердце свирепствовало. «Ура-а!» — распирало грудь. Пресная сигарета торчала изо рта. Сжав зубы, я стоял, а напротив на щитке был герой. Вспыхнула зажигалка. Рекламный ребенок подмигнул. И я отбросил сигарету! И все. Даже башмаком ее подавил.
Все, больше не курю. Сигарета подкрадывается ко мне во сне. Во сне, бывает, закурю — и сгораю со стыда весь.
Но есть еще одно бедствие. О водке-убийце слишком много говорили, а сегодня я вижу еще одно бедствие — пиво, пивко… Человек опивается, взбухает как на дрожжах, как беременный. А экран мигает разнообразной рекламой. Вот я гуляю по городу, и всюду льет пиво. Люди в подражание рекламе опиваются публично, они спешат скопировать рекламных персонажей и в своем восторге переигрывают. Люди на улицах — сверхрекламны! Толстая девочка с мохнатым шмелем родинки на щеке туго впилась в бутыль. Клерк, еле передвигая ноги (коричневый галстук съехал набок), испуганно взглатывает на ходу.
— Какое? — бледно обернулась от палатки молодая.
— Продвинутое, какое! — грубо оборвал прыщавый муж, он покачивал коляску, а в ней сидел и пузырил рот огромный розан-малыш.
Во двориках выстраиваются отягощенные тела, из сморщенных хоботков — пенистые потоки. Блестят мочевые стены, темные струи убегают по запыленному асфальту.
В этом питье есть обреченность. Пьет простудный тип в зеленушной куртке, окончательно обрекая себя на болотную муть и хлюпанье ноздрей. Народ подавляет себя, забавляясь хлопьями пены.
Но ведь идет битва.
— Ну, по пивку? — просительно заглядывает в глаза спутникам одутловатый парень.
— Да чё-то неохота, — отвечает второй, низкорослый.
— А чё так? — взорвался одутловатый.
— Да надоело пить, курить, — внятно говорит третий с детским открытым лицом. — Сам пей.
Вот, вот она, битва, которая идет ежедневно! Я против чудовищной зависимости… Выпить иногда пивка и неплохо, я против эпидемии пивной.
Уж слишком много его пьют. Мальчишки бахвалятся: «Блин, так классно вчера набухались». — «Чё брали-то?» — «Да „Классического“». Набухались. Набухли, как бутоны. И я иду позади их навеселе. Уже вторая бутыль. Хлебаю, смотрю на мир и плавно засыпаю. Пропадаю по кусочку. Глаза закрываются сами собой. Туманная зелень, мякоть мира… Слякоть хлюпает внутри. Водка хотя бы бодрит. А пиво можно пить сутками, как будто оно и выпивкой не считается. Размякло нутро, бурчит желудок, на глазах пена. Прощайте, бодрость и жизнь. Губастый миропорядок меня поглощает. Но эта мягкая удовлетворенность — иллюзия, а за ней нежнейший трепет… Трепет превращения в червя!
Вот о чем я думал, сидя в клубе-подвале на Чистых прудах. Шуршали деньги. Шип сигареты. Желтый глоток. Рядом тянулся вырез в стене. Этот вырез мог служить стоком, но оканчивался стеклом. Оконце вело на асфальт, под ноги прохожим, — шаги, дождь… Беззвучно проплывала обувь. А что, если стекло разобьется? Я представил. Грязные потоки грохочут по столам. Машина обдала сидящих, подросток, пробегая, уронил ботинок. Паника, потоп, модный «Мартинс», как черный жук, на столе.
От этих фантазий меня отвлек нищий. Он проник в клуб, бородатый и истрепанный. «Сыно-ок, — начал он. — Мне не выжрать, чаю мне». Я ему заказал чаю. Принесли пошлую прозрачную чашку, увитую стеклянным бредом. «О, ты мне чашу преподнес», — заявил нищий. Он густо отпивал: «Горячо-о!», а я пиво пил. Мы сидели вместе. За соседним столиком веселились молодые. Один из них, поворачиваясь, — бледные кудряшки, розовый смех — вдруг… наткнулся на моего нищего. Розовое лицо исказилось. Смех замер в зубах огрызком, глаза перескочили на меня — заискивая. Свойский взгляд. Приглашение высмеять нищего. «Откуда? Для чего?» — вопрошали голубые глаза. Я отвернулся от юноши.
Жирно блестели стены, духота обволакивала. Было видно, как пузыри дождя тепленько хлюпают там, в вышине, и это хлюпанье придавало окружающему особую завершенность. Я все чаще задирал голову и каждый раз, когда нога пешехода заслоняла стекло, ощущал остановку дыхания, ночь дыхания. Я переводил дух лишь с просветом в оконце. Пил я кружку за кружкой и все полнее ощущал себя свиньей у корыта. Нищий удалился. А у меня даже щетина свиная, щекоча, лезла из пор. Столбы в зале оклеены алыми афишными листами. Черные аршинные буквы. «Убей, убей…» — вычитывал я. Неужели? А… «Убей зверя в себе», — разобрал наконец. Вздохнул. А за соседним столиком, упившись, хрюкали.
Русалка
Мой спутник Стас… Он как выброшенный переспелый кусок манго. Мать родила его и сразу умерла от рака крови, воспитывал отец, полковник. Позднесоветский кагэбэшник, сидел себе в Югославии, не рыпался, всю жизнь провел в бабах и запоях. Разжиревшая громада, нажрется и бродит по квартире с бабьими сиськами и бабьим стенающим голосом. Жили на Котельнической набережной, сдают апартаменты иностранцу. Ну и каков Стасик, этот золотник молодой? Несется в огненном кутеже. За ночью ночь, из мглы в мглу, из кабака в бордель, сдабривая алкоголь порошками… Жги-гуляй!
Мы с ним и жгли, и гуляли! Как-то раз в клубе гляжу: его лупят по лицу, он упал. Я подбежал спасать. Но Стас уже поднялся, кровавые губы расплываются и обхватывают бутыль. «Му-у!» — вырывается изо рта. При мне он ссал в метро. «Я же не виноват. Писить хотелось». Пристроился в толпе пассажиров, выпростал член и по капельке выдавил. А кроткие граждане не шевельнулись.
Отсыпается он до вечера — и снова в бой! Модно одет, кофточки, маечки, пуховичок, а голос — вязкий, с завываниями. Не голос, а какое-то вязанье с вареньем. И вот с этим Стасом я подружился. Я был в тяжелом состоянии, и такое общение мне подходило.
Ночь шла к концу. В нашем смехе булькал выпитый за ночь алкоголь. Мы шли по набережной Москвы-реки. Стас гнул свою блондинистую голову и мокро кривил рот. Мерзлый рассветный час, рыбий час, когда начинается обезличивание. Кружило голову, и подкатывала тошнота. Серая рябая река. Рябь как чешуя…
— Ты же поэт, — заявлял мне Стас. — Ты писал стихотворение: «Мой папочка Шарль Бодлер…» Ты должен полюбоваться на НЕЕ.