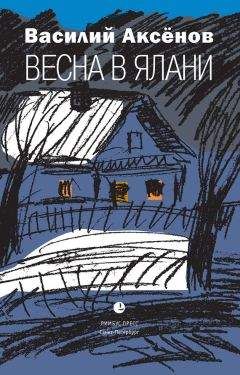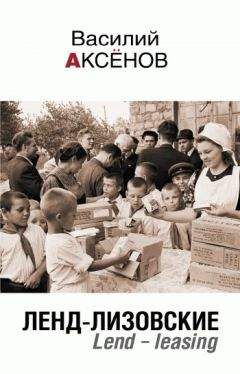Назойлив, чё там, Господи, помилуй.
Шура был старше и учился в школе на пять классов впереди Коли, вместе с Истоминым Олегом, который Колю, тогда ещё совсем маленького, лет шести или семи, червей копавшего ему сначала, к рыбалке после пристрастил. Тихим был Шура в детстве – маменькин сыночек, – с озорниками не водился. Из дома – в школу, из школы – домой, ни шагу в сторону, как делали другие. В играх мальчишек не участвовал. Ни с кем не спорил и не дрался. Закончил десять классов, последний год, когда десятилетку в Ялани закрыли, учился в Полоусно. Там уже стал он более общительным. Но, как другие, с девушками не дружил – то ли их презирал, то ли, скорее всего, стеснялся. В армию его не призвали по какой-то причине, не сознаётся по какой. Устроился он помощником пчеловода на пасеку, где работал литовец Вилюс, бывший лесной брат. Вилюс, когда им, отсидевшим тут в лагерях и оставленным здесь на временное поселение, было разрешено, вместе со своим братом Николаем, уехал на родину, не ужился там, видимо, назад вернулся, опять же вместе с братом, но на пасеке работать больше не стал, оформился на пенсию; умер уже он, Вилюс, и брат его умер, в Елисейске оба похоронены. Шура, как и водится среди пчеловодов, начал варить медовуху, сам поначалу и не пробовал, только гостей угощал да с кем-нибудь за что-нибудь рассчитывался ею, как валютой. Потом и сам вошёл во вкус. Правый глаз себе затвором переделанной им самим винтовки – пороху в патрон переложил с похмелья – вышиб, искусственный ему вставили, в Исленьск ради этого ездил. С головой у него вскоре что-то, от беспрерывной пьянки или от одинокого житья-бытья в тайге, а то и после удара в глаз затвором, стало неладное происходить. Наслушавшись в последние неспокойные времена на пасеке радио, возомнил Шура себя агентом Масхадова и приятелем Басаева. Чип будто в голову ему инопланетяне, забрав его однажды с пасеки на свой неопознанный корабль, по просьбе чеченских боевиков вмонтировали, после чего на связи с террористами стал находиться Шура постоянно, мол. Приходя из леса в Ялань, чтобы купить что-то или что-то продать, начал он угрожать своим односельчанам, что всех их, пригласив своих братьев-«духов», изнасилует (женщин и девушек) и уничтожит (поголовно). Или прилетит на каком-то никому неведомом буфатлоне и разбомбит Ялань вдребезги, яма останется лишь от деревни.
– Ну, чё попало нёс, – сказал Коля. Идёт. Шура из памяти не выпадает.
Как ненормальный.
Яланцев называл Шура – находясь в нетрезвом состоянии, конечно, – уродами или гоблинами. Я наново, кричал, одурманенный купленным у Колотуя спиртом или водкой, приобретённой у родной сестры Колотуя Натальи, перевоплотился от Святого Духа и от жены генарала Дудаева, мол. По заданию чеченского военного штаба расшифровал, дескать, свой сложный геном, мне в Турции сделали биопластическую операцию: я теперь вижу одним глазом через стены – каким, своим или вмонтированным, не уточнял, – другим, как филин, в темноте, слышу в ультразвуковом диапазоне, как мышь летучая или дельфин, вживлённые, мол, в мою голову чипы считывают все радиосигналы, которыми кишит эфир, и всю информацию со всех мировых компьютеров. Я бисексуал и кол забил на всех яланских баб и девок… старух – тем более… Вы, недоноски! Да вы хоть поняли, чё я сказал вам?! Ну и так далее, тому подобное.
Поглядит на Шуру, проходящего мимо дома, буянящего и непонятно что орущего, иной раз Колина мать, Галина Харитоновна, головой покачает и скажет: «Вот такие мы бываем. Отец-то тоже был у них маленько чокнутый, иначе в петлю не залез бы».
Принесёт летом в деревню берестяной бочонок мёду – а когда была ещё на ходу у него танкетка, не сгорела, возил на ней мёд Шура флягами, – если был сбор и что-то накачал он, продаст недорого, со скидкой, купит у Колотуя дешёвого спирту, погуляет в Ялани, пропьёт все вырученные за мёд деньги, к себе на пасеку подастся, с заначкой, правда, на дорогу, чтобы идти было не скучно. Не видно и не слышно после его какое-то время. В Ялани тихо. К сестре в город иногда, когда дел нет на пасеке, уедет. Та его скоро выгонит, не терпит пьяных. Кто их терпит? Шляться пустится Шура по злачным местам Елисейска, там объявлять себя чеченским мстителем. Нарвался как-то на отвоевавших в Чечне ребят, те ему бока намяли и лишили его последних зубов, ладно, что не убили. Пролежал Шура ночь, выброшенный из пивной, в сугробе, но не умер. Горел в танкетке – костёр развёл в ведре в ней, грелся, – спину и задницу поджарил хорошо себе, как гренку. Протыкали его насквозь, ниже грудной клетки, длинной отвёрткой. Как на собаке, на нём заживало. Мёду нет, принесёт прополису, воску или свеженагнанного дёгтю, душу вынет, пока ты у него не купишь или, рассердившись, в шею его из ограды не вытолкаешь. Уйдёт, грязно ругаясь и обещая дом спалить того, кто его выставил. Но забывал про обещание, откладывал ли на потом исполнение. Раньше этого не делал Шура, не было за ним замечено такого – стал он похаживать по окрестным таёжным избушкам, когда хозяева отсутствовали, воровать керосин и продукты, батареи к радиоприёмнику, сами приёмники, снасти охотничьи и рыболовные, проверять на чужих путиках ловушки и капканы. За что и прозвали охотники его Росомахой. Но застать его на месте преступления пока вот так и не могли.
– Уже не смогут.
А то давно бы уже он, Шура,
гнил где-нибудь под корневищем, в речке ли рыбу бы кормил.
Коля когда-то с ним охотился.
– При советской ещё власти.
На лосей и на пушного зверя. Сезона два пробродили они в междуречье Рыбной и Песчанки, где у Шуры был участок. Разлюбил охоту Коля – убивать невмоготу стало. Луша ему сказала как-то: «Чудной человек. А чё рыбачишь, рыбу-то не жалко?» – Коля ответил: «Жалко. Но Господь, Он не охотился, но рыбачил и рыбакам ловить помогал. А я Его не милосердней?» – «Господь, Госпо-одь, сравнился тоже… А жить-то как, есть-то чё будем?» – спросила Луша. «Будет день, будет и пища, – сказал Коля. – Проживём, Бог даст, как-нибудь». Годы тогда пошли уже неурожайные, и в магазинах ничего нельзя было купить свободно.
– Лишь по талонам.
И по талонам чё там… тока водку.
Но вот прожили.
Как-то, в один из коротких декабрьских дней, когда они, набродившись с ружьями на лыжах по тайге, пришли к заходу солнца в избушку и начали варить собакам перловую кашу, а себе – суп из рябчика, рассказал Шура Коле:
«Проверяю пасеку. Где – матка старая, смотрю, где – молодая. Перед сезоном, подготовить. Жаришша, пекло несусветное. Хлопат меня кто-то сзади по плечу. Оборачиваюсь. Чёрт, на тебе. Как ты сейчас вот, совсем рядом. В костюме сером, как мужик. Из нагрудного кармана простой или химический карандаш и авторучка золотая торчат. Под пиджаком – тело голое, на теле – шерсть огненно-рыжая. И вот глаза какие-то такие… Сквозь них сосняк – стоял за Рыбной, после снесли его под корень – и небо краем видно было. Говорит мне: Шура, дорогой ты мой товарищ, хватит работать, зной такой, мол, иди в избушку, отдохни, зачем изматывать себя так. А кто, милый ты мой, за меня, спрашиваю, пасеку будет проверять? Я, говорит. А ты, спрашиваю, чё, в пчёлах, что ли, разбираешься? Я, говорит, Шура, и имя знат моё откуда-то, во всём разбираюсь, а в пчёлах и подавно. Ладно, говорю. Пошёл я в избушку. Кружку холодной медоухи выпил, сел возле окна, наблюдаю. Трудится чёрт, и нипочём ему жара. Всё вроде, вижу, правильно делат. В улей дымит, как полагается. Пчёлы не шибко, вижу, сердятся, роем не кружатся над ним, его не жалят. Я ещё кружку выпил медоухи. Прилёг под полог отдохнуть. Будит меня он на закате. Сели мы с ним за стол. Выпьешь? – спрашиваю. Нет, говорит, не пью. Мясо, говорю, есть, сохатина, отведаешь? Нет, говорит, дома поел, сытый. Давай, говорит, Шура, подпишем договоришко. Какой? – спрашиваю. Да, несерьёзный. Я, мол, тебе хороший медосбор нынче гарантирую, а ты мне, дескать, душу свою под это завещаешь. Подумать надо, говорю. Мне, говорит, в одно место сбегать сейчас срочно требуется, в полночь приду, а ты тут думай. Ушёл. Выпил я кружку. Ещё одну. Сижу думаю. И думаю: а чё мне она, душа эта? Я её, один чёрт, никак не чувствую, есть она у меня, нету ли, и если есть, то заболит когда, с ней только мучайся – мне это надо? А медосбор хороший – это дело, можно и взвесить, можно оценить. Чёрт поздно ночью заявлятся… мне показалось, что чуть выпимши…» – сказал Шура так и умолк, лук и картошку опуская в котелок.
«И чё?» – спросил чуть погодя тогда Коля.
«А чё?» – переспросил Шура.
«Подписал?» – спросил Коля.
«Подписал, – ответил Шура. – А как?.. И не жалею. И договор с печатью, настоящий. Храню его, – сказал Шура. – У сестры в городе. Среди важных бумаг».
– Что он наврал-то, не похоже.
Да нет, конечно, не наврал.
Отдыхал Коля, выбрав место и усаживаясь на отвале, уже несколько раз. Раз пять, наверное, не меньше. Опять пристроился, сидит. Уснуть он не боится – выспался. Да и не так теперь уж холодно. Градусов тридцать.