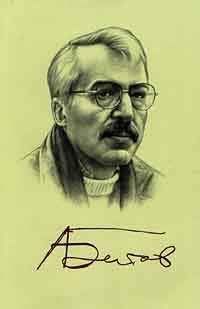Он смолк.
— Забавно. Продолжайте.
Игорь открыл глаза и увидел Александра Сергеевича неожиданно близко — лицо к лицу. На него смотрел негр.
— Я. впрочем, филолог. Я не в курсе, — вдавливаясь в кресло, отодвигался Игорь. — Мне даже ближе точка зрения не вполне научная… — И дальше продолжал, захлебываясь, засасываемый трясиной собственной речи: — Что избыток этот — рога — в его разнообразии, есть еще одно опровержение теории естественного отбора в пользу сотворенности мира, в пользу Творца. Это он как художник, любуясь своим творением, нарушил скучную целесообразность и украсил… прекрасными рогами…
Он ждал пощечины, и ее не последовало.
Над ним стоял Муханов со свечой и колодой…
— Вы что-то сказали?
Александра Сергеевича не было.
— Ушел, — сказал Муханов. — Добрый малый. Но часто весьма.
…И Павлуша прекратился, как обрезали. Несколько раз не заставал его Игорь, хотя до того он всегда сам Игоря находил. При встрече на улице Муханов едва раскланялся и явно уклонился от разговора. Игорь понял. Он не мог сердиться на Александра Сергеевича за то, что тот наговорил Павлуше, оберегая младшенького… А ЧТО Муханов?! Господи, пыль с его сапог… дышать одним воздухом… видеть издали… Шпион, сумасшедший, графоман… что такого?
Игорь дожил с ним до конца. Не так много уже оставалось. Он еще пытался вмешаться — преградил дорогу Наталье Николаевне, пытаясь предотвратить роковое свидание у Идалии Полетики… И только напугал бедную, она не разобрала его горячечной речи, тут же вынырнул, как из-под земли, спортивный поджарый полковник и смело и обеспеченно дал продрогшему и обношенному Игорю в челюсть. И когда Игорь пришел в себя, то и признал в прохаживающемся на страже у подъезда полковнике— будущего ее мужа… Как же он ненавидел Ланского! Сторожить свидание с Дантесом, своим подчиненным, чтобы через двенадцать лет просить руки Натальи Николаевны…
Не агент ли сам Муханов из еще более далекой эпохи? Игорь уже бредил. Ланской — не агент ли?., уже из 22-го.
Игорь очнулся через две недели, провалявшись на своем чердаке в тяжелейшей лихорадке и беспамятстве. Выжил. Все было кончено. Не он бросился под сани, мчавшиеся на дуэль, не он выбил пистолет из руки Дантеса, не он толпился с народом у квартиры и Конюшенной церкви, не он… Тройка с А. И. Тургеневым и гробом умчала без него… только снег завился. Игорь было погнался… но— видно, еще в бреду— почему-то закружил вокруг Лицея и чуть не попал под первый паровоз, выехавший на него прямо из Пушкинской смерти.
Он не мог, что его больше не было. Без Пушкина и его самого больше не было. И, задолжав бесконечно хозяину и докторам, он расставил свой стульчик, то есть сел верхом на свою палочку…
Он здраво рассудил, что Пушкин тогда еще его не знал.
И там он был все еще жив!
И он пустился вспять, в ТУДА, в ТОГДА.
Вооруженный опытом тридцать шестого года, подкрадывался он теперь наверняка, нацелив объектив и микрофон к высшему, как он исчислил, мгновению… а там — будь что будет! Он шел напролом, как лось, сквозь осеннюю рощу. С печальным шумом обнажалась… Ложился… на поля… туман. Все было так. Он шел напрямик, шурша по строчкам, как по листьям. Ничего не видел. Длинная его фигура выныривала из тумана, меж стогов, и пропадала в нем. Он олицетворял себя с этими клочьями, листьями, кочками… Впереди слабо светилось окно. Там, за ним, писался сейчас "Медный всадник"!
Отвыкнув от себя, от своего тела, которого давно не чувствовал, он не боялся быть замеченным. От нетерпения он прямо приник к окну: вот оно!..
Да, горела свеча… да, лежал в крошечной коечке человек и что-то так стремительно писал, будто просто делал вид, будто проводил волнистую линию за линией, как младенец… Как причудливо он был одет! В женской кофте, ночном колпаке, обмотанный шарфом… Но это был не Пушкин! Младенец был бородат и время от времени свою бородку оглаживал и охаживал, а потом снова проводил свою волнистую линию по бумаге.
Теряя рассудок, Игорь постучал в окно прежде, чем понял, что делает.
В исподнем, накинув тулуп, бородач вышел на крыльцо, прикрывая свечу ладонью. Вот это был портрет! Это был бородатый Пушкин! Странно колебались по лицу снизу вверх от свечи тени.
— Кто здесь?
— Это я, — по-детски сказал Игорь.
Свеча описала полукруг, Пушкин пропал в ночи, Игорь зажмурился от света.
Оба молчали.
— Бедный… — с невыразимой болью и состраданием сказал из тьмы бородач, — Бедный… Не дай мне Бог… — И вдруг что-то сильное и легкое прикоснулось одновременно к его голове и руке. Ладонь скользнула по лицу. Какая она была горячая и сухая! Мокрая… Пушкин утер ему слезы, которых он не чувствовал, стремительно повернулся так, что свеча погасла, и хлопнул дверью. Игорь разжал ладонь — в ней лежала золотая монета.
……………….
Утром Игорь проснулся в стогу. Вышел к озеру, умылся. Прикосновение к щетине не понравилось ему, и он извлек из сундучка свой несессер. Внимательно разглядывал он свое лицо, которое ночью погладил Пушкин… Всего три года, а как он постарел! эти седые патлы… И эта безумная бледность, и глаза… "Вот и точная датировка "Не дай мне Бог сойти с ума…" — ухмыльнулся Игорь.
Так он втянулся в эту погоню. У него была ни с чем не сравнимая возможность поправлять предыдущие ошибки. Он гнался за Пушкиным в глубь его жизни, где тот его не встречал. Странное дело! Чем больше становился его опыт, чем моложе Пушкин и старше он сам (год спустя, то есть на год раньше "Медного всадника", они были уже сверстники!), тем быстрее и ловчее (будто и он становился опытнее) отделывался от него Александр Сергеевич.
Последняя встреча удалась Игорю в 1829 году на будущем Пушкинском перевале. Он хотел улучить момент, когда Пушкин встретит арбу с Грибоедовым. Его иногда охватывало сомнение, так ли оно было на самом деле: слишком уж историческое стечение. Игорь много теперь знал про историю, какая она: не такая.
Он долго решал, когда лучше попытаться заговорить с Александром Сергеевичем: до арбы или после? Решил — до. Потому что если арба и впрямь была, то вряд ли удастся "войти в контакт" после такого потрясения. А если не было, то не все ли равно когда?.. Опытный, он точно все синхронизировал и сложил свой стульчик ровно в тот день и час и на той дороге…
Пушкин ехал на маленькой мохнатой лошадке в сопровождении казака с винтовкой. Игорь опять не сразу признал его— в плаще и широкополой шляпе. Игорь, на этот раз тщательно выбритый и причесанный, подновивший платье, с тросточкой и сундучком— странный странник! — вышел навстречу из-за поворота, спускаясь с перевала в то время, как Александр Сергеевич ехал в гору, то есть медленно. В дороге легче разговориться; его странный и европейский вид расположил Александра Сергеевича; Игорь выдал себя за путешественника-ботаника из Вены… Все шло как по маслу. Александр Сергеевич поинтересовался ночлегом на пути к Эривани, Ганс Эбель (так назвал себя Игорь) поинтересовался погодой в Тифлисе… Игорь-Ганс стал рассказывать про возраст этих гор, задумав именно так переметнуться к убедительной для Александра Сергеевича версии о возможности временных смещений (сброс, соседство пород)… Он ничем, казалось, не выдал свое знание, что перед ним поэт, что перед ним Пушкин, но взгляд из-под шляпы неожиданно удлинился, будто устремляясь поверх и вдаль; привычный испуг предыдущих провалов морозом прошел по спине Игоря, и та самая монета, которую в октябре 33-го подал ему поэт, навела его на судорожную мысль. Он извлек из кармана эту монету 33-го года чеканки и протянул Александру Сергеевичу.
— Что это? — рассеянно сказал поэт, по-прежнему вглядываясь вдаль и поверх.
— Обратите внимание на год!
Пушкин посмотрел с досадою на монету.
— Так ведь сейчас двадцать девятый! — с отчаянием воскликнул Игорь.
— Конечно. Постойте… — И он пустил коня вскачь. Навстречу арбе.
Арба — была.
И это он спугнул зайца с лежки так, что тот перебежал поэту дорогу в декабре 1 8 2 5 года…
Странная мысль закралась вдруг в голову к нашему времелетчику… А что, если… Нет, быть не может! Однако…
Почти двенадцать лет длится эта погоня. И я уже не собираюсь ее прекратить… Так, значит, так, может… Так он меня УЖЕ видел! Вот отчего он все лучше распознает меня… Тогда, в 36-м, у меня было больше шансов… Я был моложе, неузнаваемей… И здесь, на сугробе, в виду цепочки треугольных следочков, в конце которых, по выражению поэта XX века, "обязательно будет заяц", он разрыдался.
И здесь, на сугробе, отрыдав свое отчаяние, принял он спокойное и окончательное решение так и не вернуться в свой век. "Ну что ж. Дам ему время, пусть подзабудет, — рассуждал он, отважно путая времена. — Не буду тревожить его в ссылке, скоро уж он и вернется. Отправлюсь вспять, в Петербург, поживу там годика три и дождусь его возвращения…"