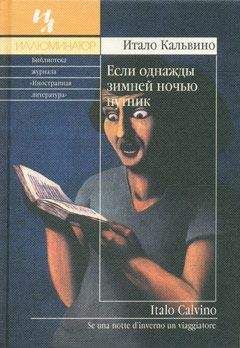Ты непрерывно открываешь для себя новых персонажей; почем знать, сколько их в нашей неоглядной поварне, пересчитывать бессмысленно: здесь, в Кудгиве, нас всегда было хоть отбавляй; одни уезжали, другие приезжали, со счета собьешься; к тому же одного человека могут называть по-разному: то по имени, то по отчеству, то по фамилии, то по прозвищу, а то и просто окликнут: «Янкова вдовица» или: «Кукурузный Початок» – когда как. Важнее внешние штрихи, намеченные в романе: обкусанные ногти Бронко, пушок на щеках Бригд, их телодвижения, предметы обихода, скарб, кухонная утварь: деревянная колотушка для отбивки мяса, дуршлаг для кресс-салата, маслобойка; жест или утварь дают первое представление о героях; мало того, о них хочется узнать поподробнее, словно маслобойка сама по себе определяет характер и судьбу того, кто предстает перед нами в первой главе с маслобойкой в руках; словно всякий раз, когда по ходу повествования возникает данный герой, ты, Читатель, готов воскликнуть: «А, да это тот самый, с маслобойкой!» – обязывая автора приписывать ему свойства и поступки, созвучные упомянутой вначале маслобойке.
Наша кудгивская поварня, казалось, нарочно была устроена так, чтобы в любое время на ней могли свободно поместиться сразу несколько человек, занятых всевозможной стряпней: кто лущил горох, кто фаршировал здоровенных карпов линьками и плотвой; каждый кухарил, жарил, парил, приправлял, пробовал, перекусывал, перехватывал; одни уходили, их сменяли другие, и так с утра до поздней ночи: когда тем утром я сошел в поварню, жизнь там кипела уже вовсю; и то сказать, деньто был особый: накануне приехал пан Каудерер с сыном, а наутро должен был уехать, забрав вместо него меня. Я впервые покидал отчий дом: все лето мне предстояло провести в усадьбе пана Каудерера, в округе Пёткво, пока не уберут рожь; там я буду обучаться работе на новой бельгийской сушилке, а Понко, самый юный отпрыск Каудереров, проведет это время у нас, чтобы навостриться в подвое рябины.
Привычные звуки и запахи дома окружали меня в то утро, словно в прощальном хороводе; я оставлял все накопленное до сих пор, оставлял надолго – так мне казалось, – когда я вернусь, все будет по-другому, не как прежде, и сам я буду уже не тем, прежним мною. Поэтому в моем представлении я навсегда расставался с поварней, домом, клецками тетушки Угурд; поэтому к ощущению предметности, которое ты уловил с первых строк, прибавляется ощущение потери, умопомрачительного распада; однако от такого проницательного Читателя, как ты, не ускользнула и эта тонкость; еще на первых страницах, наслаждаясь выверенностью авторского слога, ты смекнул, что, по правде говоря, сюжет как бы просачивается у тебя сквозь пальцы; наверное, все дело в переводе, убеждал ты себя, хоть и точном, но все же не воспроизводящем предельной телесности оригинала, каким бы ни был оригинал. Каждая фраза стремится донести до тебя прочность моей привязанности к дому в Кудгиве и одновременно горечь расставания с ним; а кроме того – может, ты того еще не подметил, но, приглядевшись, обязательно увидишь, – неукротимое желание оторваться от него, устремиться к чему-то неведомому, перевернуть страницу, унестись подальше от манящего кисловатого запаха скобленицы, к новой главе и новым встречам во время бесконечных закатов на Аагде, воскресных вечеров в Пёткво, праздничных гуляний во Дворце Сидра.
Фотография черноволосой девушки с короткой стрижкой и вытянутым лицом показалась на миг из дорожного сундука Понко и тут же нырнула обратно под дождевик. Мансарда над голубятней: до сих пор она была моей – отныне будет его. Понко доставал вещи и раскладывал их по ящикам гардероба, который я недавно освободил. Я молча смотрел на него, сидя на уже собранном сундуке и машинально загоняя внутрь согнувшуюся головку гвоздя. Мы не перемолвились ни словом, только поздоровались сквозь зубы. Я следил за каждым его движением, соображая, что же все-таки происходит: мое место занимает какой-то чужак; он становится мной; моя клетка со скворцами переходит к нему, мой стереоскоп, настоящий уланский шлем, висящий на стене, все, что я никак не мог взять с собой, остается ему; все, что связывает меня с вещами, людьми и здешними местами, принадлежит теперь ему, точно так же как я становлюсь им и занимаю его место среди окружавших его вещей и людей.
Девушка...
– Это кто такая? – спросил я и опрометчиво протянул руку к фотографии в резной деревянной рамке. Она была не похожа на местных девчонок, как на подбор круглолицых, русоволосых и с косичками. Я подумал о Бригд; мне вдруг представилось, как Понко и Бригд танцуют на празднике Святого Фаддея, как Бригд штопает Понко варежки, как Понко дарит Бригд куницу, пойманную моим силком.
– Не трожь фотографию! – заорал Понко, вцепившись мне в руку железной хваткой. – Не лапай! Понял?!
«На память о Звиде Оцкарт» – успел я прочесть надпись на фотографии.
– Кто такая эта Звида Оцкарт? – только и вырвалось у меня: в лицо мне уже летел свирепый кулак, и сам я набросился на Понко, и мы катались по полу, выкручивая друг другу руки, лягаясь коленками и норовя посильнее заехать противнику по ребрам.
Здоровяк Понко наваливался на меня всем весом, больно молотил руками и ногами. Я пытался схватить его за волосы и сбросить, но рука только скользнула по жесткому, как собачья щетина, бобрику. Пока мы колошматили друг друга, мне почудилось, будто во время нашей потасовки произошло некое перевоплощение и, когда мы поднимемся, он будет уже мною, а я – им; хотя вполне возможно, эта мысль пришла мне в голову лишь теперь, вернее, она пришла в голову тебе, Читатель, а не мне; ведь тогда, в пылу драки, я до последнего стоял за самого себя, за свое прошлое, лишь бы не уступить его сопернику; ради этого я готов был уничтожить мое прошлое, уничтожить Бригд, лишь бы она не попала в руки Понко; я и думать не думал, что могу влюбиться в Бригд, как не думаю и теперь; правда, однажды, сцепившись, мы катались с ней по куче торфа в закутке у печи, прямо как сейчас с Понко; сдается, что уже тогда я оспаривал ее у воображаемого Понко; я оспаривал у него и Бригд и Звиду; уже тогда я пытался вырвать часть моего прошлого и не отдавать его недругу, новоявленному двойнику встопорщившемуся собачьим бобриком; а может, уже тогда я пытался выхватить из прежнего, неведомого самого себя тайну, призванную стать частью моего прошлого или будущего.
Эта страница стремится донести до тебя стихию нашей яростной сшибки, глухих, чувствительных ударов, хлестких, безжалостных ответов, отчетливых движений собственного тела над телом чужака, точного распределения собственных сил при нападении и защите, соотнося эту стихию с отраженным изображением противника, посылаемым тебе словно из зеркала. Но если чувства, вызываемые чтением, окажутся лишь бледной копией реально прожитых чувств, то это еще и потому, что пока я надавливаю на грудь Понко собственной грудью или пока мне заламывают руку за спину, я испытываю вовсе не то чувство, которое позволило бы утвердиться в моем намерении овладеть Бригд, ощутить ее упругую девичью плоть, так не похожую на костистую крепость Понко; чтобы овладеть Звидой, ее воображаемо пылким и податливым телом, овладеть уже утраченной Бригд и еще не обретенной Звидой в ее бесплотном, застекленном отображении на фотографии. Напрасно пытаюсь я пробиться сквозь нагромождение противостоящих мне и вместе тождественных мужских конечностей и стиснуть в объятиях ускользающие в их неумолимом отличии женские призраки; тщетно силюсь поразить самого себя, то есть другого себя, что скоро займет мое место в этом доме, возможно, еще более моего себя, которого я хочу вырвать у того, другого; я лишь чувствую, как меня вытесняет его чужеродное начало, словно он уже занял мое место и все остальные места, а я уже стерт с лица земли.
Чуждым показался мне мир, когда я наконец отбросил противника и вскочил на ноги. Чуждым было все: моя комната, собранные в укладку вещи, вид из моего оконца. Я боялся, что уже никто и ничто не будет таким, как раньше. Мне захотелось найти Бригд, но я не знал, что ей сказать и как себя вести; не знал, что скажет она и как будет себя вести. Я искал Бригд, думая о Звиде: цель моих поисков была двуликая Бригд-Звида, такая же двуликая, как я сам; я уходил от Понко, безуспешно оттирая слюной пятно крови на вельветовой куртке – моей или его крови, из моей разбитой губы или расквашенного носа Понко.
И в этой своей двуликости я услышал и увидел сквозь пройму двери, ведущей в парадную залу, пана Каудерера. Вытянув вперед руку, он говорил:
– И тут я увидел их обоих, Кауни и Питте. Одному было двадцать два, другому двадцать четыре. Грудь каждого из них была прошита крупной охотничьей дробью.
– Когда это случилось? – спросил мой дед. – Мы ничего об этом не знали.
– Перед самым отъездом справили девятый день.
– Мы-то думали, что между вами и Оцкартами все уже уладилось. Считали, что на старой вражде давным-давно поставлен крест.