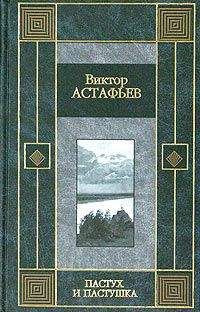— Во! — кричал Шкалик. — А они не верят! У нас еще коней разводили!.. Графья Строгановы…
— И откуль в таком маленьком человеке столько памяти? — развел руками Пафнутьев.
— Хватит! — прикрикнул Борис. — Дался он вам…
— Я сурьезно…
Все в Борисе одрябло, даже голос, в паутинистом сознании путались предметы, лица солдат, ровно бы выцветшие, подернутые зыбкой пеленой. Сонная тяжесть давила на веки, расслабляла мускулы, даже руками двигать было тяжело. «Уходился, — вяло подумал Борис. — Больше не надо выпивать…» Он начал есть капусту с картошкой, попил холодной воды и почувствовал себя тверже.
Старшина покуривал, пуская дым в потолок, и все так же отдаленно улыбался, кривя угол рта.
— Извините, — сказал хозяйке Борис, как бы проснувшись, и пододвинул к ней банку с американской колбасой. Он все время ловил на себе убегающий взгляд ласковых, дальним скользящим светом осиянных глаз. Будто со старой иконы или потертого экрана появились, ожили глаза и, то темнело, то прояснялось лицо женщины. — Держу при себе, как ординарца, хотя он мне и не положен, — пояснил Борис насчет Шкалика, чтобы хоть о чем-то говорить и не пялиться на хозяйку. — Горе мне с ним: ни починиться, ни сварить… и все теряет… В запасном полку отощал, куриной слепотой заболел.
— Зато мягкосердечный, добренький зато, — неожиданно вставил Мохнаков, все глядя в потолок и как бы ни к кому обращаясь. Взгляд и лицо Мохнакова совсем затяжелели. А в горле появилась ржа. Помкомвзвода почему-то недобро подъедал взводного. Солдаты насторожились — этого еще не было. Старшина, будто родимый тятя, опекал и берег лейтенанта. И вот что-то произошло между ними. Ну произошло и произошло, разбирайтесь потом, а сейчас-то в этой хате, при такой молодой и ладной хозяйке, после ночного побоища всем хотелось быть добрыми, хорошими. Ланцов, Карышев, Малышев, даже Пафнутьев с укором взирали на своих командиров.
Борис не отозвался на выпад старшины и не прикасался больше к кружке с самогонкой, хотя солдаты и насылались с выпивкой, зная, что чарка всегда была верным орудием в примирении людей. Даже Ланцов разошелся и пьяно лип с просьбой выпить.
Родом Ланцов из Москвы. В детстве на клиросе пел, потом под давлением общественности к атеистически настроенному пролетариату присоединился, работал корректором в крупном издательстве, где, не жалея времени и головы, прочел без разбора множество всяческой литературы, отчего привержен сделался к пространным рассуждениям.
— Ах, Люся, Люся! — схватившись за голову, долговязо раскачивался Ланцов и артистично замирал, прикрывая глаза. — Что мы повидали! Что повидали! Одной ночи на всю жизнь хватит…
«Прямо как на сцене, — морщился Борис. — Будто он один насмотрелся».
Пересиливая раздражение, Борис положил руку на плечо солдата:
— Корней Аркадьевич! Ну что вы, ей-богу! Давайте о чем-нибудь другом. Споемте? — нашелся взводный.
Звенит зва-янок насче-от па-верки-и-и,
Ланцов из за-я-амка у-ю-бежа-а-а-ал… —
охотно откликнувшись, заорал Пафнутьев. Но Корней Аркадьевич прикрыл его рот сморщенной ладонью.
— Насчет Ланцова потом. Говорить хочу. Я долго молчал. Я все думал, думал и молчал. — Взводный чуть заметно улыбнулся солдатам: пусть, мол, потешится человек. — Я сегодня думал. Вчера молчал. Думал. Ночью, лежа в снегу, думал: неужели такое кровопролитие ничему не научит людей? Эта война должна быть последней! Или люди недостойны называться людьми! Недостойны жить на земле! Недостойны пользоваться ее дарами, жрать хлеб, картошку, мясо, рыбу, коптить небо. Прав Карышев, сто раз прав, одна истина свята на земле — материнство, рождающее жизнь, и труд хлебопашца, вскармливающий ее…
Что-то раздражало сегодня лейтенанта, все и все раздражали, но Ланцов с его рассуждениями в особенности. И хотя Борис понимал, что пора уже всем отдыхать и самого на сон ведет, он все же подзадорил доморощенного философа в завшивленной грязной гимнастерке, заросшего реденькой, сивой бородой псаломщика:
— Так. Земля. Материнство. Пашня. Все это вещи достойные, похвальные. — Борис заметил, как начали переглядываться, хмыкать бойцы: «Ну, снова началось!» — но остановить себя уже не мог. «Неужто я так захмелел?..» — но его несло. Отличником в школе он не был, однако многие прописные истины выучил наизусть: — Ну а героизм? То самое, что вечно двигало человека к подвигам, к совершенству, к открытиям?
— Героизм! Подвиги! Безумству храбрых поем мы песню! — с криком вознес руки к потолку Ланцов. — Не довольно ли безумства-то? Где граница между подвигом и преступлением? Где?! Вон они, герои великой Германии, отказавшиеся по велению отцов своих — командиров от капитуляции и от жизни, волками воющие сейчас на морозе, в снегах России. Кто они? Герои? Подвижники? Переустроители жизни? Благодетели человечества? Или вот открыватели Америк. Кто они? Бесстрашные мореплаватели? Первопроходцы? Обратно благодетели? Но эти благодетели на пути к подвигам и благам замордовали, истребили целые народы на своем героическом пути. Народы слабые, доверчивые! Это ж дети, малые дети Земли, а благодетели — по их трупам с крестом и мечом, к новому свету, к совершенству. Слава им! Памятники по всей планете! Возбуждение! Пробуждение! Жажда новых открытий, богатств. И все по трупам, все по крови! Уже не сотни, не тысячи, не миллионы, уже десятками миллионов человечество расплачивается за стремление к свободе, к свету, к просвещенному разуму! Не-эт, не такая она, правда! Ложь! Обман! Коварство умствующих ублюдков! Я готов жить в пещере, жрать сырое мясо, грызть горький корень, но чтоб спокоен был за себя, за судьбу племени своего, собратьев своих и детей, чтобы уверен был, что завтра не пустит их в распыл на мясо, не выгонит их во чистое поле замерзать, погибать в муках новый Наполеон, Гитлер, а то и свой доморощенный бог с бородкой иудея иль с усами джигита, ни разу не садившегося на коня…
— Стоп, военный! — хлопнул по столу старшина и поймал на лету ложку. — Хорошо ты говоришь, но под окном дежурный с колотушкой ходит… — Мохнаков со значением глянул на Пафнутьева, сунул ложку за валенок. — Иди, прохладись, да пописять не забудь — здесь светлее сделается, — похлопал он себя по лбу.
Люся очнулась, перевела взгляд на Ланцова, на старшину, видно было, что ей жаль солдата, которого зачем-то обижали старшина и лейтенант.
— Простите! — склонил в ее сторону голову Корней Аркадьевич. Он-то чувствовал отзывчивую душу. — Простите! — церемонно поклонился застолью Ланцов и, хватаясь за стены, вышел из хаты.
— Во, артист! Ему комедь представлять бы, а он в пехоте! — засмеялся Пафнутьев.
Большеголовый, узкогрудый, с тонкими длинными ногами, бывший пожарник походил на гриб, растущий в отбросах. В колхозе, да еще и до колхоза проявлял он высокую сознательность, чего-то на кого-то писал, клепал и хвост этот унес за собой в армию, дотащил до фронта. Злой, хитрый солдат Пафнутьев намекал солдатам — чего-чего, но докладать он научился, никто во взводе не пострадает. И все-таки лучше б его во взводе не было.
Мохнаков умел управляться со всяким кадром. Он выпил самогона, налил Пафнутьеву, дождался, когда тот выпьет, и показал ему коричневую от табака дулю:
— Запыжь ноздрю, пожарный! Ты ведь не слышал, чего тут чернокнижник баял! Не слышал?
— Ни звука! Я же песню пел, — нашелся Пафнутъев и умильно, с пониманием грянул дальше:
Росой с тра-я-вы-ы он у-ю-мыва-ялся-а-а,
Малил-ыл-ся бо-е-огу на-я-а васто-о-о-ок…
Шкалик сел на соломе, покачался, поморгал и потянулся к банке.
— Не цапай чужую посудину! — рыкнул на него старшина и сунул ему чью-то кружку. Шкалик понюхал, зазевал косорото. Затошнило его.
— Марш на улицу! Свинство какое! — Борис, зардевшись, отвернулся от хозяйки, уставился на старшину. Тот отвел глаза к окну, скучно зевнул и стал громко царапать ледок на стекле.
— Да что вы, да я всякого навидалась! — пыталась ликвидировать неловкую заминку Люся. — Подотру. Не сердитесь на мальчика. — Она хотела идти за тряпкой, по Карышев деликатно придержал ее за локоть и показал на банку с колбасой. Она стала есть колбасу. — Ой! — спохватилась хозяйка. — А вы сала не хотите? У меня сало есть!
— Хотим сала! — быстро повернулся к ней старшина и охально ощерился. — И еще кое-чего хотим, — бросил он с ухмылкой вдогонку Люсе.
Пафнутьев, подпершись ладонью, тянул тоненько песню про Ланцова, который из замка убежал. Сколько унижали и жизни Пафнутьева, особенно в тыловой части, в особом-то отделе, все время заставляя хомутничать, прислуживать и все передовой стращали, а оно и на передовой жить можно. Бог милостив! Кукиш под нос? Да пустяк это, но все же царапнуло душу, глаза раскисли, сами собой как-то, невольно раскисли.
— Жалостливость наша, — мямлил Пафнутьев, и все поняли — это он не только о себе, но и о Корнее Аркадьевиче. — Вот я… обутый, одетый, в тепле был, при должности, ужасти никакой не знал… Жалость меня, вишь ли, разобрала… Чувствие!