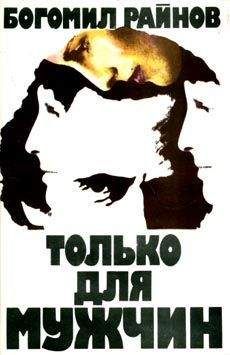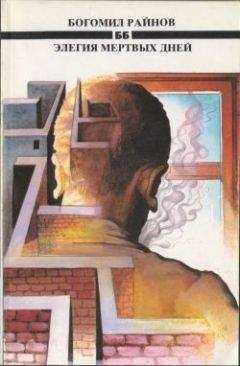На территории скуки все одинаково важно и все в одинаковой степени хранит многозначительную бессмысленность: старательное приготовление утреннего бутерброда с маслом и конфитюром, ничтожная процедура намыливания и бритья, заправка постели, чтоб можно было после этого снова вытянуться на кровати, уже заправленной. Связь настоящего с прошлым и будущим оборвана, существует лишь миг настоящего, сам по себе и сам для себя, в течение этого бесконечного мига лезвие бритвы косо скользит по твоей щеке, стаскивая книзу мыльную пену, не вызывая у тебя ненужных вопросов – таких, как, например, «почему?», «для чего?», «до каких же пор?…».
Никаких тебе вопросов и никаких наивных поисков смысла. Искать смысл можно только там, где что-то происходит, где есть движение. А на территории скуки ничто не движется, кроме бритвы. Время растягивается… Миг, который тянется так долго, что ты уже и не помнишь, когда он начался, тебе наплевать, когда он закончится, он так плотно окутывает тебя пустотой, что ты и себя начинаешь воспринимать как пустоту – отрадное ощущение, освобождающее тебя от всяких мыслей и порывов, а уж тем более от нелепых мечтаний о гонораре или, допустим, о какой-нибудь «крошке».
Имя моей «крошки» – госпожа Скука, и я нисколько не намерен ругать ее, как поступают тысячи неблагодарных. На такое способны лишь нытики: они жаждут сильных ощущений, а вот выйти им навстречу у них духу не хватает. Ну ежели тебе жизнь не в жизнь без сильных ощущений, то хвати топором по руке – вот и не придется скучать.
Лично я ничего не жажду, и в особенности сильных ощущений (только этого мне не хватало – сильных ощущений!), мы премило уживаемся с госпожой Скукой. Не могу сказать, что я ее люблю – на ее территории такие слова звучат смехотворно, – однако терплю ее безропотно. А много ли в наши дни найдется людей, способных безропотно терпеть подобную гостью, которая вроде бы случайно забежала к вам в дом, а потом позабыла, что пора уходить.
Конечно, это дремотное состояние, этот сон без сновидений в царстве пустоты может быть расценен и как явление болезненное. Но болезненное – с чьей точки зрения? С точки зрения тех, что мнят себя здоровыми, а на самом деле больны.
Ничего не делать, твердят они, эти больные, – противоестественно. Допустим. А сами-то они что делают? Мы служим обществу, говорят одни, подтверждая это тем, что получают зарплату. Мы творим, заявляют другие, поскольку творчество оплачивается лучше, чем канцелярская работа. Мы печемся о своем духовном росте, говорят третьи, потому что ничем больше не могут похвалиться, и тычут вам в нос собственные добродетели. Вроде того пенсионера, про которого рассказывал Искров. Для них превыше всего мораль, но единственно потому, что они читают ее другим. Словом, с пеной у рта ратуют за самоусовершенствование, на путь которого человечество стало еще в начале нашего летосчисления, точнее, сразу же после того, как распяли Христа. Распяли – и давай самоусовершенствоваться.
И поскольку в Библии сказано: «Не укради!», они громогласно повторяли: «Не укради!» – и потихоньку крали. И поскольку все там же говорится: «Не прелюбодействуй!», они грозили друг другу пальцем, после чего каждый шел спать с женой другого. И поскольку все та же толстая книга повелевает: «Не убий!», они вскоре запретили убийство как частную инициативу, чтобы возвести его в ранг государственной политики. И поскольку у бедняги Иисуса была всего одна рубашка на плечах и он говорил, что скорее верблюд пройдет сквозь игольное ушко, нежели богач попадет в царствие небесное, богачи решили, что им проще простого справиться с его учением, присвоив его, и объявили себя самыми благочестивыми христианами.
Да, те, что мнят себя здоровыми, утверждают, что бездействие аморально. А разве в стремлении удовлетворять свои естественные потребности заключена какая-то мораль? Это и животные делают. Я – тоже, но не проявляю при этом излишней жадности и не ставлю себя в пример другим. И если сейчас моя деятельность сведена до минимума, это вовсе не признак моего нравственного падения – просто у меня теперь нет жены, которая раньше приставала с ножом к горлу: «Дай денег!», и мне совершенно безразлично, деликатесы или же кусок брынзы будут использованы в качестве горючего для моего мотора, польза от которого и для других, и для меня самого равна нулю.
Я не стремлюсь прослыть фанатиком или мизантропом. Я не говорю, что все пекутся только о собственном желудке и что разговоры об общем благе всегда лицемерны. Не утверждаю, что не существует людей, которые в своей жизни строго придерживаются нравственного кодекса. Однако среди своих знакомых я что-то не встречал такого типа. Одни более совестливы, другие – менее, но именно такой тип мне не попадался на глаза. Если попадется, я тут же возьму свои слова обратно и объявлю себя больным, если это вообще кому-нибудь интересно.
Не следует думать, что я только тем и занимаюсь, что лежу на постели. Чтобы в полной мере ощутить прелесть лежания, приходится иногда вставать. Так что я встаю и совершаю небольшую прогулку до коридора, чтобы посмотреть, как все выглядит с противоположной стороны света. Выглядит розовым. Или – голубым. Розовым или голубым – по желанию. Дверь на террасу снабжена цветными стеклами, и цветов только два, а вид открывается на все ту же сумрачную и почти безлюдную улочку.
Маленькая улочка с высокими зданиями. Моя жена всегда учитывала, на юг ли выходят окна, но здесь любое направление северное, потому что дом стоит как в колодце между высокими зданиями, и трудно поверить, чтобы в какое-нибудь из его окон когда-нибудь проникал луч солнца.
А вот орех изумительный. Мне даже начинает казаться, что я не заслуживаю такой роскоши. Эти ветки, ритмично поднимающиеся одна над другой, эта густая, прохладная зелень широких листьев и вся благородная невозмутимость этого растительного существа как будто несовместимы с уродством искалеченных стен и бельем, вывешенным на балконах.
Прогулки ограничиваются верхним этажом, который Жорж любезно объявил моей территорией. Нижний мир с его темной гостиной и с незнакомыми соседями меня не привлекает. Иной раз, преимущественно утром и вечером, оттуда доносятся глухие шумы – стук дверей, звон посуды, – и это все.
После того как я несколько дней пролежал на кровати, меня осеняет героическая мысль – вынуть из чемоданов вещи и разместить их в моем новом жилище. При этом я вдруг обнаруживаю, что моя жена совершила благороднейший жест – сунула мне сахар и кофе. Теперь мне ничего не стоит спуститься вниз и сварить его.
Мужественно преодолев в темноте скользкую лестницу, я пересекаю гостиную и оказываюсь на кухне, дверь которой, похоже, и днем и ночью распахнута. Помещение с плиточным полом довольно просторно, в окно открывается широкий вид на слепую стену соседнего здания. Обстановка и кухонная утварь не поражают изобилием: раковина и четыре тумбочки, на которых стоят электрические плитки. «Твоя напротив двери», – говорил Жорж.
Следую его предписанию, попутно наливаю в принесенную кастрюлю немного воды, ставлю ее на плитку и втыкаю штепсель. В кухне по-прежнему тихо, но что-то как бы давит мне на затылок, и сразу становится понятно, что я здесь не один. На пороге стоит пожилой мужчина, молча следит за моими действиями. Широкие плечи и грузное туловище делают его приземистым, хотя рост у него выше среднего; коротко подстриженные волосы напоминают щетину, лицо изборождено морщинами. Старость, как видно, не первый год борется с этим человеком, но не без трудностей, так как у него самого вид борца. Борца-тяжеловеса, уже, должно быть, вышедшего на пенсию и давно растерявшего свои лавры, но не мускулы. При виде его угрожающей позы можно подумать, что он пришел меня бить.
– Не работает, – произносит он низким, чуть хрипловатым голосом.
Положив руку на круг плитки, я убеждаюсь, что он совершенно холодный.
– Что не работает? Нет контакта?
– Плитка. И никогда не работала.
– Зачем тогда Жорж ее берег?
– Чтобы сохранить территорию.
Незнакомец, продолжая стоять на пороге, смотрит на меня как-то недоверчиво. Может, эта недоверчивость исходит от его глаз – они прищурены, словно их раздражает свет. Тонкие губы плотно сжаты, в их уголках как будто таится усмешка.
– Придется чинить, – бормочу я, выдергивая штепсель.
– Выбросьте ее. – И, чтобы я не истолковал его совет превратно, он добавляет: – Никто на вашу территорию не позарится, не бойтесь.
– Чего мне бояться? Сварить кофе можно и на жестяной крышечке со спиртом.
Он посматривает на меня все так же недоверчиво, словно хочет сказать: «Лжешь». Потом произносит неохотно:
– А, если речь о кофе, то можешь воспользоваться моей плиткой. Она там, дальше.
Я все надеюсь, что он уберется наконец, но он наблюдает за мной еще некоторое время, как будто проверяя, умею ли я пользоваться столь сложным приспособлением – электрической плиткой. Его телеса едва вмещаются в костюм неопределенного серо-лилового цвета – когда видишь на витрине вещи такой безобразной расцветки, невольно удивляешься, кто их станет носить, но, как ни странно, покупатели все же находятся. Верно, костюм куплен готовый: пиджак слишком тесен, его широко распахнутые борта совсем не сходятся на животе Борца, завернутом в клетчатую рубашку, словно младенец в пеленки. Для такой массивной фигуры живот не такой уж большой – какие бывают животы! – но самого Борца он, видно, раздражает – недаром он зверски стянул его военным ремнем.