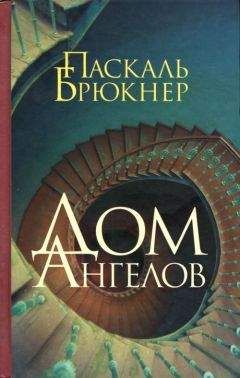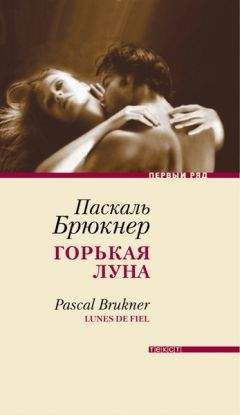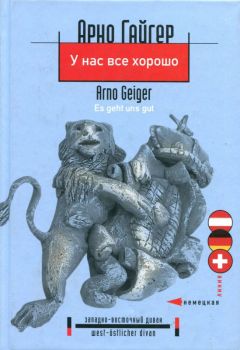Она дарила любовнику чудесные подарки без всякого повода, отчего ему становилось не по себе. Он считал себя обязанным отдариваться в ответ какой-нибудь безделицей. Его эта гонка изнуряла, она же, наоборот, обожала состязаться в великодушии, и каждая вещица, подаренная или полученная, была для нее поводом к новым дарам. Она смотрелась во все зеркала, в рамы картин, в экраны компьютеров, в стекла на улице, никогда не пропускала своего отражения, волнуясь о впечатлении, которое оно могло произвести. Порой она сидела голая на краю ванны перед большим зеркалом, словно хотела сама себя заворожить или понять, что же в ней завораживало других.
— В двадцать лет, — говорила она с иронией, — я была хороша и считала себя некрасивой. Теперь я и впрямь некрасива, но нахожу, что совсем недурна.
Наедине она часто смотрела перед собой большими печальными глазами, сидела, ни слова не говоря, уставившись в стену. Потом вдруг бросалась Антонену на шею, целовала, шептала нежные слова, пугавшие его. Ему хотелось закрыть ее, как закрывают досье: отработал и убрал на место. Страсти повергали его в ужас: он стремился организовать любовь на манер рабочего расписания, отвергая сердечную анархию. Он помнил одно утро, ему было тогда лет четырнадцать, мать в очередной раз не ночевала дома. Его отец читал за столом «Юманите»[4], прячась за развернутой газетой. Антонен наклонился и увидел, что он плачет горючими слезами. Свободная любовь — тяжкое бремя, если она чужая. Он надолго сохранил отвращение к неразборчивой похоти.
Беседу между ними всегда поддерживала Моника, порой давая ей угаснуть, точно углям в камине. Антонен был неразговорчив, боялся запутаться, ляпнуть невпопад. Моника запоем читала книги, начинала по нескольку зараз, забывала их в кафе, в поездах, тут же переключалась на другую. Она глотала и классиков, и современников с ошеломлявшим его аппетитом. Он только и делал, что расставлял на полках томики, которые она приносила к нему, а иногда тайком выбрасывал один-два в мусорное ведро. Он никогда не открывал книг, которые она ему дарила, тем паче литературных новинок. Только аккуратно вытирал пыль с каждой обложки.
Их роман начался с технологического недоразумения. В начале их знакомства он послал ей длинное sms-сообщение и написал в конце: «Je t’embrasse» — целую. То ли он плохо набрал, то ли еще что, но телефон запомнил только три первые буквы: Je t ’ет — почти Je t’aime[5]. Она поймала его на слове, хотя для него это была не столько страсть, сколько дань условности, в которой наслаждение играло второстепенную роль. Он не отдавался — скорее уступал. Моника долго заводилась, если прибегнуть к автомобильной метафоре, а Антонен был неважным механиком. По обоюдному соглашению, Венере они служили скромно. Когда Антонен кончал, Моника сама доводила себя до оргазма, коротко вскрикивала и больше об этом не говорила. Простая формальность, и только. Порой после любви она смотрела на него тоскливыми глазами, словно спрашивая: и это всё? А иной раз умоляла его в постели: подожди, подожди, — и он видел, как другая женщина, пылкая, ненасытная, вырывается из той, что лежала под ним. Она часто ходила в ночные клубы и танцевала до утра. Иногда затаскивала его с собой, но веселиться он не умел, пить не любил, и она называла его ночным колпаком.
Всю свою заботу Моника отдавала собаке, джек-рассел-терьеру очень живого нрава с черной полосой поперек морды, похожей на пиратскую повязку. Она назвала его Капитан Крюк. Она вообще безгранично любила животных и подавала нищим, только если при них были кот или собака. Не в меру резвый, Капитан Крюк требовал постоянного ухода: его надо было выводить три-четыре раза в день и непрерывно развлекать. Этот плотный комок мышц и шерсти вечно задирал на улицах других собак, даже зубастых догов, которые могли разорвать его в клочья. К тому же он бесцеремонно вмешивался в их интимную жизнь. Когда они занимались любовью, Моника поначалу запирала пса в другой комнате, дав ему косточку или мячик. Но у Капитана Крюка было на этот счет свое мнение: он лаял под дверью, скреб по дереву коготками. Если ему открывали, он запрыгивал на постель и утыкался влажным носом между ног хозяйки, которая, смеясь, отбивалась.
— Это же терьер, он охотится на лис и барсуков, ничего не поделаешь, такой у него генетический код.
Легко было все валить на генетический код. Капитан Крюк демонстрировал ярко-алую эрекцию и обнюхивал их интимные места, повелительно лая. Причиндал у него был маленький и твердый, как карандаш. В начале их связи Антонен и Моника соединялись в темноте, в полном молчании, а после сразу бежали в ванную смыть грех потоками воды. Но вскоре она добилась права не гасить лампу, а через три месяца — оставлять открытой дверь, чтобы пес не чувствовал себя брошенным. Капитану Крюку мало было присутствовать при любовных игрищах хозяйки. Из ревности или по нескромности он кружил вокруг любовников, высунув язык, взбухшим членом словно меряясь с Антоненом. Из страха перед случайным укусом у того пропадало желание, а пес знай себе возбужденно терся о Монику.
— Нет, малыш, нет, — смеялась она, — извини, нельзя.
И, схватив его в охапку, уносила в кабинет, мягко журя.
— Понимаешь, милый, я должна объяснить ему мое решение, пес заслуживает, чтобы с ним обращались как с большим.
Объяснения происходили по-английски — Моника была совершенной билингвой, пес, видно, тоже, Антонен слышал шепот, ласковый и укоризненный, негромкое тявканье, затем наступала тишина. Моника обладала даром убеждения. Она возвращалась, будила Антонена, но ему больше ничего не хотелось.
— Прости меня, любимый, надо было успокоить Капкрюка (так она сокращенно называла пса). Он не привык оставаться один. До того как мы с тобой познакомились, он все ночи спал со мной. Я уверена, что вы подружитесь.
Антонен этой уверенности насчет будущей дружбы не разделял.
— Спасибо тебе за понимание, — говорила она, целуя его, — ты чудо.
Пес стал арбитром их любовных игр. Перманентный гон смущал молодого человека: при виде разнузданного либидо кобеля съеживалось его собственное вожделение. Собаку все возбуждало, а Антонена все расхолаживало. Он предложил свести Капитана Крюка с суками его породы, чтобы тот успокоился. Моника в ответ рассказала ему об имевшем место печальном опыте с сукой. В ходе непредусмотренной случки на улице пес оказался пленником penis captivus: неопавшая головка застряла намертво. Ни в коем случае нельзя было растаскивать их силой, ведь у кобеля может сломаться пениальная косточка, а сука рискует разрывом вульвы. Битых пятнадцать минут они терпели насмешки уличных мальчишек, мясник из ближайшей лавки окатил их водой из ведра, и в конце концов Монике пришлось погрузить собак в такси, завернув их в одеяло, чтобы не испачкать сиденья, и оплатить поездку к ветеринару. Он может представить себе, какая это была травма?
Моника много работала, приносила свои досье домой по воскресеньям, порой спрашивала у него мнения или совета. К дизайну у нее был настоящий талант. Ариэль высоко ценил ее, может быть, даже слишком, не скупился на комплименты и предлагал ей открыть собственное агентство. Когда она изучала досье или рисовала, лежа на кровати рядом с возбужденным кобелем, Антонен трудился в поте лица, проводя большую воскресную уборку. Она наблюдала инспекторским глазом, указывала на недоделки. Пес, наделенный врожденным чувством соревнования, носился, суча лапами, по кровати. То были редкие моменты, когда им бывало весело вдвоем. Моника молодела на глазах, становилась милой и ласковой девочкой. Антонену даже виделось их общее будущее. Он мучился, что не может любить ее больше, чувствуя в себе какой-то тормоз, парализовавший его чувства. Он, однако, старался. Он ценил ее сдержанность: никаких излияний или неуместных признаний, хотя и она мечтала о более тесном союзе и не раз закидывала удочки в этом направлении.
Он замечал в иные вечера, когда она уставала, морщинки в уголках губ, намек на красную сетку, и чувствовал одновременно облегчение и грусть. Он представлял себе, какой она станет через тридцать лет, когда эти пухлые, в форме домика, губы превратятся в узкую щель с морщинистыми краями, а щеки ввалятся. Антонен с детства любил состаривать своих одноклассников и учителей, воображая их лысыми и пузатыми. У всех мужчин старость сказывается в первую очередь либо на животе, либо на волосяном покрове. Первый вздувается в ностальгии по невозможной беременности, второй редеет, превращая голову в блестящий шарик, этакую гипертрофию мужского достоинства. Антонен и сам видел, как проступает под его нынешними чертами, — его считали красивым парнем, — морщинистый старец, и этот образ мешал ему жить. Он мечтал о чудесном устройстве, которое стирало бы годы, как стирают с зеркала пыль.