— Старина Хун, а если у вдовы Су столько достоинств, что ж ты сам на ней не женился?
От этих едва слышных слов Хун Тайюэ онемел. Он долго молчал, будто в растерянности, а когда заговорил, ответ был не по существу, но убедительный и строгий:
— Ты, Лань Лянь, со мной умничать брось. Я партию представляю, власть и деревенскую бедноту. Даю тебе последнюю возможность, выручу ещё раз. Надеюсь, ты одумаешься в последний момент, — что называется, остановишь коня на краю пропасти, — осознаешь свои заблуждения, вступишь на правильный путь, вернёшься в наш лагерь. Мы можем простить тебе слабость, простить бесславную страницу твоей истории, когда ты по доброй воле стал рабом Симэнь Нао, и не станем из-за женитьбы на Инчунь изменять твой классовый статус батрака. Такой статус — табличка с золотым обрезом, нельзя, чтобы она ржавела или покрывалась пылью. Заявляю об этом официально и надеюсь, что ты немедля вступишь в кооператив: приведёшь своего избалованного осла, притащишь тачку, что досталась тебе во время земельной реформы, погрузишь в неё выделенную тебе сеялку, принесёшь инвентарь, явишься вместе с женой и детьми, конечно включая Цзиньлуна и Баофэн, этих щенков помещичьих. Вступишь и один больше работать не будешь, бросишь независимость свою выказывать. Как говорится, «краб переправляется через реку — уносит течением»,[47] «умён, кто шагает в ногу со временем». Не упрямься — зачем превращаться в камень, что загораживает дорогу! Ни к чему эта твоя непреклонность. Мы много людей перековали, поспособней тебя, все теперь по струнке ходят. Я, Хун Тайюэ, скорее кошке позволю в своей ширинке спать, но чтобы ты у меня под носом единоличником оставался — не потерплю! Всё понял, что я сказал?
Глотка у Хун Тайюэ лужёная, натренированная ещё в ту пору, когда он бычьим мослом народ завлекал. Было бы диво дивное, если бы с такой глоткой да с подвешенным языком он не стал чиновником. Даже я отчасти проникся его речью, когда наблюдал, как он с высоты своего положения выговаривает Лань Ляню. Сам на полголовы ниже Лань Ляня, а мне казалось, что наоборот, значительно выше. Когда он упомянул Цзиньлуна и Баофэн, сердце сжалось: скрывавшийся в ослином теле Симэнь Нао места себе не находил, переживая за две частички своей плоти и крови, оставленные им в переменчивом мире людей. Лань Лянь мог стать им и защитой, и зловещей звездой, сулящей несчастье. Тут из западной пристройки вышла моя наложница Инчунь — где взять сил, чтобы забыть время, когда я делил с ней постель в союзе, от которого родились эти дети! Наверняка перед тем, как выйти, успела повертеться перед вставленным в стену осколком зеркала. На ней крашенная индатреном синяя куртка, просторные чёрные штаны, на талии повязан синий фартук с белыми цветами, на голове — платок из того же материала, что и фартук; всё опрятно и гармонично. Измождённое лицо в лучах солнца: этот лоб, эти глаза, эти губы, нос — всё всколыхнуло нескончаемый поток воспоминаний. Вот уж поистине славная женщина, горячо любимое сокровище, которое так и хочется спрятать за щёку и никому не показывать. Разглядел её, Лань Лянь, ублюдок. А взял бы в жёны рябую вдовушку Су — да пусть даже в Нефритового императора[48] обратился, разве она идёт в сравнение! Подойдя, Инчунь согнулась в низком поклоне:
— Вы, почтенный Хун, человек большой, не взыщите с нас, подлого люда, вам ли опускаться до простого трудяги.
Напряжённое лицо Хун Тайюэ тут же заметно смягчилось, и он поспешил воспользоваться благоприятным моментом:
— Инчунь, ты сама прекрасно знаешь историю вашей семьи — вы двое можете, как говорится, «разбить треснувший кувшин», пустить всё на самотёк. Но нужно подумать о детях, у них вся жизнь впереди. Лет через восемь-десять лет ты, Лань Лянь, поймёшь: всё, что я говорю здесь сегодня, — для твоего блага, для блага твоей жены и детей, мои слова — мудрый совет!
— Я понимаю ваши добрые намерения, уважаемый Хун. — Инчунь потянула Лань Ляня за руку. — Быстро проси у почтенного Хуна прощения. А о вступлении в кооператив поговорим дома.
— Тут и говорить нечего, — заявил Лань Лянь. — Даже родные братья делят между собой имущество. А что доброго в том, когда собираются вместе люди из разных семей и едят из одного котла?
— Тебе и впрямь хоть кол на голове тёши, настоящий «булыжник в солёных овощах: солью не пропитывается»,[49] — разозлился Хун Тайюэ. — Ладно, Лань Лянь, воля твоя, оставайся сам по себе на отшибе. Но погоди, ещё посмотрим, чья возьмёт — сила нашего коллектива или твоя. Сейчас я уговариваю тебя вступить в кооператив, терпеливо и по-доброму, но наступит день — сам будешь на коленях умолять, и этот день не за горами!
— Не буду я вступать! И на коленях умолять не стану, — сказал Лань Лянь не поднимая глаз. — В правительственном уложении как записано: «вступление добровольное, выход свободный», так что силком тебе меня не затащить!
— Дерьмо собачье! — зарычал Хун Тайюэ.
— Вы, уважаемый Хун, не имеете никакого…
— Ты эти свои «уважаемый» брось, — пренебрежительно, вроде даже с некоторой брезгливостью перебил её Хун Тайюэ. — Я — партийный секретарь, староста деревни, да ещё и общественную безопасность представляю по совместительству!
— Партийный секретарь, староста, общественная безопасность… — оробело мямлила Инчунь. — Пойдём мы, пожалуй, домой, там поговорим… — И захныкала, толкая Лань Ляня: — Упрямец чёртов, башка каменная, давай домой…
— Какое домой, я ещё не всё сказал, — упорствовал Лань Лянь. — Ты, староста, моего ослика ранил, будь любезен заплатить за лечение!
— Сейчас, пулей заплачу! — И, похлопав по кобуре, Хун Тайюэ расхохотался. — Ну ты, Лань Лянь, молодец! — А потом вдруг заорал: — Это дерево при разделе на кого записано?
— На меня! — подал голос командир народных ополченцев Хуан Тун. Он всё это время стоял у входа в восточную пристройку и наблюдал за происходящим, а теперь подбежал к Хун Тайюэ. — Секретарь партячейки, староста, общественная безопасность, во время земельной реформы это дерево на меня записано, но с тех пор ни одного абрикоса не принесло, даже срубить собирался! Ненавидит оно нас, беднейших крестьян-батраков, как и Симэнь Нао.
— Что ты несёшь! — презрительно хмыкнул Хун Тайюэ. — Если хочешь быть у меня на хорошем счету, говори как есть. Не ухаживаешь за ним как следует, вот и не плодоносит, а Симэнь Нао тут ни при чём. Это дерево хоть и записано на тебя, но когда-нибудь тоже станет коллективной собственностью. Путь к коллективизации, ликвидация частной собственности, искоренение эксплуатации — это уже во всём мире происходит, так что присматривай за ним хорошенько. Ещё раз позволишь ослу глодать кору, шкуру спущу!
С фальшивой улыбочкой уставившись на Хун Тайюэ, Хуан Тун безостановочно кивал. Прищуренные глазки светятся золотистым светом, губы приоткрыты, видны жёлтые зубы с багровыми дёснами. В это время появилась его жена Цюсян, бывшая моя вторая наложница. В корзинках на коромысле она несла своих детей — Хучжу и Хэцзо. Гладко зачёсанные волосы смазаны дурманящим османтусовым[50] маслом, лицо напудрено, одежда с цветочной каймой, зелёные бархатные туфли вышиты алыми цветами. Вот ведь всё нипочём человеку: нарядилась как в те времена, когда была моей наложницей, напомадилась, нарумянилась, глазами постреливает — так и стелется, просто девка беспутная. «Женщина-труженица», как же! Я эту дамочку как свои пять пальцев знаю: натура у неё скверная, за словом в карман не полезет и на проделки хитра; только в постели и хороша, а вот доверять ей никак нельзя. Уж мне-то её высокие амбиции известны — не приструнивай я её, она бы и урождённую Бай, и Инчунь со свету сжила. Ещё до того, как мне разнесли мою собачью голову, эта ловкая баба смекнула, куда ветер дует, и выступила против меня — заявила, что я взял её силой, помыкал ею, что она день за днём терпела издевательства от урождённой Бай. Дошла до того, что в присутствии множества мужчин на собрании по сведению счётов с помещиками распахнула блузку и стала показывать шрамы на груди. Это, мол, всё помещичья жёнушка урождённая Бай прижигала горящей курительной трубкой, гнусный тиран Симэнь Нао шилом тыкал. И причитала при этом на все лады своим волнующим голосом — ну настоящая актриса, знающая, как покорять людские сердца! Это я, Симэнь Нао, оставил её у себя по доброте душевной. Ей тогда было чуть больше десяти, и она с болтающимися позади косичками ходила по улицам со слепым отцом и пела, выпрашивая подаяние. Её бедный отец умер прямо на улице, и ей пришлось продать себя, чтобы его похоронить. Я взял её в дом прислугой. Тварь неблагодарная, не приди я, Симэнь Нао, на помощь, сдохла бы от холода на улице или кончила проституткой в борделе. Слезливые жалобы этой шлюхи и её лживые обвинения звучали настолько правдоподобно, что собравшиеся перед возвышением пожилые женщины плакали навзрыд — даже рукава, которыми они утирались, блестели. Тут же послышались лозунги, вспыхнуло пламя гнева, и я понял, что мне конец, что от руки этой паскуды и подохну. Посреди рыданий и воплей она то и дело воровато поглядывала на меня щёлочками удлинённых глаз. Не держи меня за руки двое дюжих ополченцев, я, не думая о последствиях, подскочил бы к ней и надавал оплеух — одну, две, три. Правду говорю, она уже получала от меня по три пощёчины за то, что сеяла ссоры и раздор. И тут же падала на колени и обнимала меня за ноги, глядя полными слёз глазами. Под взглядом этих красивых, жалких, чувственных глаз сердце таяло и естество восставало. Ну как быть с такими женщинами: язык как помело, поесть готовы всегда, поработать — увольте, а после трёх пощёчин лезут к тебе, будто пьяные или не в себе? Такие любвеобильные для меня сущее наказание. «Господин мой, братец милый, забей меня, убей, разруби на куски, душа моя всё равно с тобой останется…» А тут вдруг вытаскивает из-за пазухи ножницы и кидается к моей голове. Хорошо ополченцы остановили её и оттащили с возвышения. До этого я считал, что она ломает комедию, чтобы выгородить себя. Трудно было поверить, будто женщина, которая провела в моих объятиях столько ночей, может испытывать такую лютую ненависть…

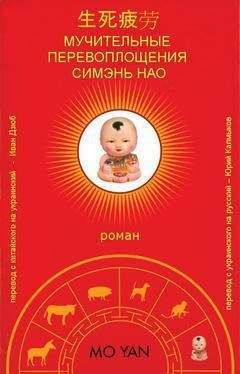



![Rick Page - Make Winning a Habit [с таблицами]](https://cdn.my-library.info/books/no-image-mybooks-club.jpg)