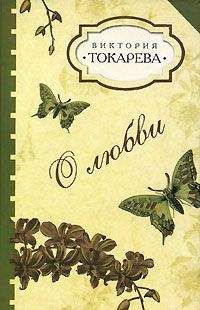Я привыкла к его звонкам. Я их ждала и смотрела на часы.
В одиннадцать вечера звонил телефон, и я уже знала, что это Деничка. Я брала с собой спички, сигареты и шла, как на дежурство. Однажды я спросила:
— Сколько ты зарабатываешь? — Это был не американский вопрос. В Америке считается неприличным говорить о зарплате. У нас тоже.
— Пятьсот долларов, — легко ответил Деничка. У него не было от меня тайн. — Но четыреста уходит на сиделку. У меня работает медсестра из реанимации. Карина. Вечером я прихожу с работы, и она уходит.
— А если ты захочешь в гости или в театр…
— Я не захочу.
— Тебе тоскливо?
— Нет. Я так привык. Я люблю работать за компьютером. Сижу, работаю, потом прихожу к Наде и рассказываю, что я придумал.
— Она понимает?
— Ну конечно. Все понимает.
— Навестить вас? — спросила я.
Он замолчал, как споткнулся, и я сообразила, что навещать не надо.
— Нам никто не нужен на самом деле, — сказал он. — У нас свой мир. Постороннему он кажется ужасным. А нам хорошо.
У меня все наоборот. Со стороны я — в полном порядке. А внутри — пустыня. Я часто заводила беседы сама с собой, была одновременно и пациенткой, и врачом-психоаналитиком в одном лице. Я спрашивала себя:
— Чего тебе не хватает?
И сама себе отвечала:
— Меня не любят, а только используют.
— Ты им не нужна, но ты им необходима.
— Я старею…
— Если бы вечную молодость давали по талонам: кому-то дали, а кому-то нет. Тогда обидно. Почему не мне? Но природа уравняла и умных и дураков, и бедных и богатых, достойных и недостойных. Даже гении не имеют привилегий…
— Но одиночество…
— А кто не одинок?
— Надя, жена Денички.
— Хочешь на ее место?
— Нет. Жизнь больше, чем любовь. Любовь — это только составляющая.
— Значит, ты хочешь быть здоровой, преуспевающей и любимой одновременно.
— Да. А разве нельзя?
— Здоровье — это образ жизни и наследственность. Твои родители. Корни. Преуспевание — это ты сама, твой труд. А быть любимой — это надо вложиться: любить самой. Ты сама любила? Или только потребляла чужую любовь?
Я молчу. Я не знаю, что сказать резонеру внутри меня. Значит, одиночество — наша расплата за наши грехи.
Однажды Деничка позвонил и сказал:
— Я сделал ей замечание — она заплакала. Она плакала одним глазом.
— А второй? — не поняла я.
— Второй парализован. Плакал только один глаз, и слезы шли по одной щеке.
Деничка замолчал, как провалился.
— Ты плачешь? — догадалась я.
— Нет, — сказал он.
Но я не поверила. Он плакал.
— Ты выпей, — предложила я.
— Я выпиваю каждый день, — сознался он. — У меня везде бутылки рассованы.
— Смотри не спейся.
Он молчал. Плакал.
Шла шестилетняя программа профессора из Оклахомы. Надежда перепутала день с ночью, как грудной ребенок. Днем спала, а ночью оживала. Ей хотелось есть, мыться, смотреть телевизор, беседовать…
Деничка днем бегал на работу, и ночное бдение возле жены было второй сменой. Он перестал спать. У него могла съехать крыша. Он звонил подавленный. Рассказывал о том, что наступила стойкая ремиссия. Здоровье Нади стабилизировалось. Это может длиться несколько лет.
— И ты несколько лет не будешь спать? — спросила я.
— Ну при чем тут я? — удивился Деничка. — Главное, что Надя не движется к концу.
— По-моему, ты первый помрешь, — предположила я.
— Это было бы неплохо, — серьезно сказал Деничка.
Он боялся остаться без нее. Он не умел без нее.
— Найми тетку на ночные дежурства, — посоветовала я.
— Надя не хочет ночью чужих людей. Я ее понимаю.
Все, кого я знаю, были способны на сочувствие — месяц. Ну, два. А из года в год, изо дня в день, сделать это своей жизнью… Это просто подвиг, сродни религиозному. Я не знала Надю, видела только один раз, но я готова была послужить ей тем, что поддерживала Деничку. Как могла. Я не просто говорила с ним, а вникала в тему. Я делала нашу беседу искренней и интересной. Как будто раздувала огонек милосердия. И он светил в ночи.
Если раньше мы скакали на ухабах в счастье, то теперь брели в ночи, спотыкаясь и держась друг за друга.
И если кто-то нес свой тяжелый крест, то другие обязаны были его поддержать. Или хотя бы стоять рядом.
Моя подруга Надька звонила мне время от времени. Когда я заводила разговор о Деничке — она обрывала меня. Отмахивалась:
— Не надо, не надо, не надо…
— Почему?
— Потому что я ничем не могу помочь, а погружаться в чужой стресс я не в состоянии. Я потом оттуда не вынырну…
Ну что ж… Есть и такая позиция. Зачем разговаривать, разводить ля-ля-тополя, если ничего нельзя сделать.
Я не осуждала Надьку. Однако если один не захочет сопереживать, другой, третий, то Деничка останется один, как в лесу. А если один бросит камешек сострадания, другой, третий, то Деничка, как мальчик с пальчик, по камешкам сможет найти дорогу обратно. Из отчаяния в жизнь.
Деничка снова пришел ко мне на работу. Посидел полчаса и ушел.
— А что он ходит? — спросила Соня.
— Отмокает, — сказала я.
— Планирует, — уточнила Соня.
— Что ты хочешь сказать?
— То самое. Не будет же он один, как анахорет.
Я перестала жевать овсяное печенье и некоторое время сидела с полным ртом. Потом проглотила.
— А кто такой анахорет? — спросила я.
— Не знаю, — ответила Соня. — Если он тебе не понадобится, отдай его мне.
— Зачем?
— Надоело биться за мужика. Хочется свободного без жены, без детей. У него ведь нет детей?
— Нет, — вспомнила я. — Но у него есть жена.
Соня промолчала. Есть вещи, о которых можно думать, но нельзя произносить. О Деничке нельзя было сказать: вдовец. Но он был «перспективный вдовец», а значит — жених.
— Он же тебе не нравился, — напомнила я.
— Мне уже сорок лет, — созналась Соня. — Копалась в женихах, как в мусоре. И осталась на бобах. А этот все-таки лауреат. Духовный человек…
Соня приготовила растворимый кофе. Разлила по чашкам.
Посетителей не было. Начальство задерживалось. Редкая минута тишины и независимости.
— Я уже не хочу бешеных страстей, ревности, перетягивания каната — кто главней… Я хочу обыкновенную жизнь: с утра на работу, вечером домой. Ужин со свечами. Походы в театр… А можно и без свечей и без театра — просто у телевизора, сидеть и комментировать власти предержащие. Совпадать во мнениях или спорить…
Соня смотрела перед собой в одну точку, и казалось, что она грезит наяву.
Я вдруг вспомнила, как Деничка смотрел на меня в театре, будто ловил лицом солнце… А вдруг действительно — планирует, хотя Деничка не плановый, не практичный и не прагматичный. И все же: почему не я? Почему не он?
Ночью мне приснилось, будто мы Деничкой идем в обнимку по старинной узкой улочке, а на его груди висит табличка: «Лауреат».
Значит, меня все-таки смущала его внешность.
— А что ты ешь? — спросила я в очередной раз. — Как ты питаешься?
— Нормально, — сказал он.
— А кто тебе готовит?
— Иногда на работе. А иногда Карина, медсестра. Она ведь Наде готовит…
— А что она готовит? — поинтересовалась я.
— Ну, так… — Деничке была неинтересна эта тема. Он любил есть вкусно, но мог наесться чем угодно. Даже просто хлебом и луком.
— А хочешь, сходим в казино? — пригласила я.
Деничка подумал, потом сказал:
— Зачем мне казино? Я лучше на компьютере поработаю.
— Не хочешь или не можешь? — уточнила я.
— И то и другое. Можно я тебе почитаю, я тут кое-что набросал.
Деничка начал читать шутливое приветствие к чьему-то юбилею. Текст был набит шутками, типа: менестрель — значит киллер, экстаз — значит бывший таз.
Я слушала и отмечала: Деничка трезвый и адекватный и даже в состоянии написать спич к чьему-то юбилею.
Зима тащилась долго, и казалось — ей не будет конца. И даже в апреле лежал снег.
Деничка позвонил в непривычное время, в два часа дня, и проговорил непривычно официальным тоном:
— Моя жена Надя умерла. Прощание состоится завтра в морге девятой больницы.
Он назвал улицу и дом. И положил трубку.
Я чувствовала: его как будто разрезало пополам. Одной половины нет. А другая действует, говорит, мыслит и плачет.
Я стояла возле телефона, склонив голову. Как бы ни болела Надя, но она БЫЛА. А сейчас ее нет, и где она — знает один Бог.
К моргу я опоздала, совсем немного, на двадцать минут. Заезжала на базар за цветами. Я была уверена, что двадцать минут — не срок на фоне вечности. Но оказывается, панихида уже началась.
Морг был крошечный, отдельно стоящее одноэтажное строение. Провожающие не уместились в нем, и небольшой хвост вылезал из дверей.