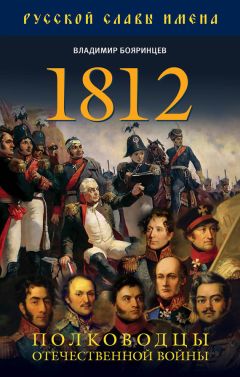Отложив последнее письмо, Тиллим многозначительно вздохнул и уставился на древний щит, надеясь сосредоточиться и осмыслить сложившуюся ситуацию. В этот ответственный момент в комнату Папалексиева бесшумно вошел пронырливый агент по недвижимости. Поднеся к самому лицу хозяина расписку, он просил вернуть полученные им когда-то деньги. Не давая Тиллиму сказать что-либо в ответ, агент тут же ознакомил его с вескими аргументами в пользу возврата денег:
— На основании решения, согласно которому дом больше не считается музейным объектом и редкостным образцом зодчества эпохи модерна, прошу вернуть переданный вам денежный залог с возвращением нашей фирмой расписки, согласно которой вы обязуетесь возвратить…
Тиллим вышел из-за стола, не дослушав обращение агента, и, скрестив на груди руки, уставился в окно. Ничего не понимающий агент тоже подошел к окну, желая понять, что могло так заинтересовать хозяина комнаты в этом теперь уже ничем не примечательном, унылом дворе. Он брезгливо взглянул во двор через плечо Папалексиева и удивленно воскликнул:
— Как? Разве они не погибли? Неужели кто-то распространил дезинформацию? Конкуренты решили нас разорить! Я все понял!
Агент выскочил из квартиры, а Тиллим опять подошел к столу. Не успела захлопнуться дверь за одним нарушителем спокойствия, а в комнату уже влетел другой. Им был обезумевший от радости Лева, убежденный, что он будет первым, кто принес Тиллиму счастливую весть:
— Розы!!! Розы!!! Весь двор в розах! Помойка опять расцвела! У нас будут отдельные квартиры! Слышишь, Тиллимушка?!
— Слышу… — спокойно ответствовал Тиллим, погруженный в изучение деталей отделки Авдотьиного щита.
Лева сообразил, что добрым вестником ему стать не удалось и что он потревожил соседа не вовремя, однако он все же осмелился спросить:
— Ты потерял эту женщину?
В ответ Лева услышал нечто весьма странное:
— Я сегодня сэкономил денег… Купил сигареты, а там вместо десяти оказалось двадцать штук… В два раза сэкономил. — В подтверждение своих слов Тиллим повертел перед носом соседа пачкой.
— Сколько лет курю, и всегда в пачке было двадцать сигарет, — удивился Лева и озадаченно почесал в затылке. — Может, я и не замечал раньше…
— Да… — рассеянно проговорил Тиллим, — судьба подарила мне эту женщину, а я ее потерял…
— Не грусти! — произнес сердобольный Лева таким тоном, будто он был виноват в потере возлюбленной Папалексиева.
Тиллим же положил локти на таинственный щит, подперев подбородок руками, устремил взгляд в бесконечность и мечтательно произнес:
— Хочется кофе, сигарету, тишины и права на собственную грусть…
В этот многозначительный миг в коридоре пронзительно зазвонил телефон. Папалексиев болезненно сморщился и все же поспешил снять трубку. Звонили из редакции. Хотели узнать, когда восходящее литературное светило осчастливит их своим новым творением.
— Извольте, — невозмутимо ответствовал Тиллим и продиктовал следующее заявление:
Дорогой читатель! Примите мои искренние пожелания, которые, как мне кажется, невозможно воспринимать без возмущения. И тем не менее, припадая на левое колено и нежно целуя шлейф ваших размышлений, я прошу прощения за мой самонадеянный порыв и лживые излияния, которыми окропил страницы этой чудесной некогда газеты. Все, что я тут написал, есть бредовый вымысел и плод моего больного воображения, а может быть, невинная шутка, над которой вы утратили самое дорогое и ценное, что есть у человека, — время.
В ответ, после восторженного вздоха, в трубке прозвучала следующая фраза:
— Господин Папалексиев, скажите, пожалуйста, а сколько раз надо повторять текст?
1995Нео-Буратино
(Святочная быль)
Посвящается
моему другу с детства Олегу Седову,
при котором моя невеселая жизнь веселела.
Перед Новым годом, как водится, наступила у артиста Гвидона черная полоса в жизни — образовался в материальном благосостоянии зияющий вакуум. Все деньги, которые день от дня, год от года, отказывая себе во многом, копил на комнату, пропали в одночасье. Сколько унижений претерпел служитель Мельпомены, зарабатывая нужную сумму. Приходилось откровенно торговать собой в пошлейшей рекламе (Гвидону не довелось рекламировать разве что интимные женские товары — возраст и пол не соответствовали, а то бы…); периодически вечерами артист стоял у стойки, изображая собой бармена в заведении на Петроградской, принадлежавшем известному кинозвезде Безрукову, который, впрочем, давно уже не снимался, но работал рекламным режиссером и клипмейкером (сам Безруков долго учился произносить это слово, ибо был косноязычен) и иногда исполнял третьестепенные роли в Академическом театре. Вместе с Гвидоном за «упоительной чашкой вина» они грустно шутили, вспоминая незабвенного героя Островского: «Место артиста в буфете!»
Покупка комнаты! Сколько мечтал о ней Гвидон наяву, играя обладателей родовых замков и вилл. Он видел свою комнату во сне: не очень большую, но вполне приличную, с любимыми книгами на полке, импортным телевизором непременно с дистанционным управлением. Ему снилось, что, лежа в постели, небрежным жестом левой руки он перебирает кнопки на пульте, а правая покоится на обнаженном плече нежной, души в нем не чающей супруги. Наяву не было и супруги. Была возлюбленная — Зиночка (суфлерша родного театра). Душой и всем остальным Зина была искренне расположена к Гвидону, но, как следовало из ее объяснений, меркантильные родственники запрещали ей выходить замуж за артиста, не имевшего надежного пристанища и — о ужас! — даже петербургской прописки. Комната в коммуналке на птичьих правах постояльца не могла быть приданым и не давала Гвидону права претендовать на спокойную семейную жизнь, а он, как обыкновенный, в сущности, одинокий мужчина на четвертом десятке, хоть и с творческим «сдвигом по фазе», о семейном очаге мечтал и лез на стенки своей съемной клетушки. Он уже терял уважение к самому себе: «Ну кто я такой? В тридцать пять ни хрена не имею, бьюсь как рыба об лед на своих работах и халтурах, а какой-нибудь молокосос-отморозок уже в двадцать получает от жизни всё!!! Зачем меня мама родила, чистоплюя с возвышенной душой и пустым карманом? Знало бы их поколение, выпестованное государством и ведомое по жизни за ручку, какие ломки ожидают их чад в „цивилизованном обществе“!» Ничего не оставалось Гвидону — только «крутиться», накапливая понемногу на самостоятельную жизнь в собственной комнате, хотя бы в коммуналке. Зина согласна была пойти «под венец» в загс, покажи ей Гвидон в паспорте штамп о прописке в любой комнате любой петербургской квартиры. Еще не накопив нужное количество «зеленых», Гвидон уже примерял на себя разные варианты, а когда наконец и денег оказалось достаточно, все пошло прахом из-за совета соседа по коммуналке — безвозмездного доброхота.
За стенкой у Гвидона жил Бяня — абориген Петроградской стороны, как он сам хвастался, петербуржец в десятом поколении.
— Я тебе зуб даю, руку на отсечение и вообще не сойти мне с этого места, если я, благородный человек, тебя обманываю: мой прапрапра… в общем, какой-то далекий дед дворянин недорослем был зачислен капралом в Павловский полк. Император Павел, убиенный, — ну, ты историю знаешь — вызвал его в Петербург, и этот самый мой пращур служил чуть ли не с шестнадцати лет в охране Инженерного замка… Хотя его потом Инженерным назвали, ну ты знаешь… И вот этот предок после заварухи с убийством царя попал в опалу, но в конце концов все-таки дослужился в гвардии до полного генерала. Вояка был знатный — Абдулов-Лейпцигский. Это ему за «Битву народов» вторую часть фамилии дали. Не слыхал? Странно — ты ж вроде интеллигент, историю знать должен… Ну да ладно. Вот он-то и был первым петербуржцем в нашем роду. Дворец имели на Французской набережной, к Кутузовым — соседям — визиты делали, а потом… Что было, то было — можешь, конечно, не верить, но это чистая правда.
Лицо Бяни приобретало страдальческое выражение.
— А сейчас я — усохший отпрыск славного рода. Вот, сижу тут в квартире, которая, между прочим, когда-то моим деду с бабкой принадлежала, невостребованный, водку дешевую с тобой пью. Цени!
Гвидон ценил Бяню, служившего в театре разнорабочим на подхвате, понимающе хлопал его по плечу:
— Жизнь все расставит по своим местам… И всех…
— Эт точно! — приободрялся Бяня. — Пришло время собирать камни, как сказано в Книге Книг, только вот «камни» все замшелые да почерневшие! — И он смотрелся в зеркало, разглядывая набухавшие под глазами мешки и неухоженную седеющую бороду, начинал корчить себе рожи. — Бя-я-ня, Бя-я-ня! Бяня и есть… Все ясно, как простая гамма.