— Ты, наверное, имеешь в виду осетровую икру, — прервал ее Лофтис.
— Нет, — продолжала Ла-Рут, — я совсем не про то. Мама сказала мне…
— Заткнись, — сказала Элла. И посмотрела на Лофтиса со смущенной кривой улыбкой. — Клянусь, счастливы вы, правда? Клянусь, душа у вас радуется, верно?
Он согласился, жуя кусочек сельдерея, что это радует его душу, и направился к холодильнику за пивом, но тут Элла, сморщившись, в порицании сказала:
— Ну а теперь не стыдно вам?
— Всего одну бутылочку, Элла? Последнюю, перед тем как у меня отберут мою крошку. Одна бутылочка не повредит, Элла.
Она нехотя дала разрешение легким кивком и с сердитым видом наклонилась над сковородкой, полной хлебных мякишей, а Ла-Рут тихо хихикнула.
— Вылезай оттуда, Стонволл, — сказала она. — Он тебя не укусит.
— Не говори мисс Элен, — сказал Лофтис и направился на заднее крыльцо с холодной, вспотевшей бутылкой пива в руке.
«Это будет надолго моя последняя», — подумал он. Было очень тихо на воде и холодно, и луна, висевшая бледной лампой над заливом, казалось, проливала лишь холодный свет на скопление выцветших, пыльных звезд. Пьяный пилигрим, земля катилась сквозь сонмы астероидов, и падающие звезды, угасая в ночи, летели вниз, словно раскрошившиеся стекла. В своей замаскированной и озадачивающей радости Лофтис мог бы даже и всплакнуть, а также в благодарность за состояние спокойствия, в достижение чего — годы назад — он никогда не поверил бы.
Элен была права. Простое касание руки восстанавливает все, и кто знает, когда пальцы сплетаются и сжимают друг друга добела, до невидимых костей, какая возникает химическая реакция? Нам свойственна порядочность, и это пожатие, возможно, лишь укрепляет ее. Он сдержал обещания, которые дал Элен, и она, хоть и не давала никаких обещаний, озаренная светом его трансформации, раскрылась, как цветок, от которого откатили затенявший его камень, и он расправил под солнцем нежные лепестки благодарности. Все это нелегко далось ни ему, ни Элен. Он должен был кое-что в ней излечить, а поскольку она была сопротивляющимся пациентом, постаравшимся вскормить свои страдания, его лечение осуществлялось насильственно, круто и очень эмоционально. Вспоминая день, проведенный в Шарлотсвилле, он с ума сходил от чувства вины, от того, что видел, как гибнут их жизни, и ничто не казалось ему слишком жестким, если уметь сохранить равновесие. Даже его любовь к Элен, честная и глубокая, была подчинена этой цели. Он упал к ее коленям в байроническом раскаянии, дико вращая глазами, плача, с волосами на глазах, прося ее простить его за все — за Долли, за то, что из него не получился хороший юрист, за пьянство — и понимая — чувствуя, как пары виски забивают ему ноздри, а она встает и молча уходит, что все это достойно сожаления, что он сможет убедить ее, лишь прекратив заниматься тем, что позволяло ему быть таким величественно-скромным и кающимся. Дом был пуст. Моди из него ушла и Пейтон — тоже. Элен не выходила из своей комнаты и спала, убаюканная нембуталом; Элла приносила ей на подносе еду, Элен никого не видела, только читала старые журналы — «Джиогрэфик» и «Лайф». В церковь она больше не ходила.
Серым ветреным январским днем — специально, как она потом сказала ему, — она приняла немного больше, чем нужно, таблеток, и пришлось срочно вызывать доктора Холкомба, и он наложил стетоскоп на ее слабо бьющееся сердце и сделал ей укол. Когда Элен ожила, доктор ушел, осторожно, конфиденциально сказав Лофтису, что ему следует поместить ее куда-нибудь для лечения. Поскольку это был человек старый, подозрительно относящийся к прогрессу, он употребил термин «психиатр, удостоверяющий вменяемость», и это выражение, исходившее от человека, который, по мнению Лофтиса, должен знать, о чем говорит, наполнило его сверхъестественным и особым страхом. Он вернулся наверх — туда, где Элен сидела у окна, завернутая в одеяла. Он взял из ее пальцев зажженную сигарету.
— Он сказал, чтобы вы не курили.
— Да, я знаю.
Он сел рядом с ней на стул и, вздрогнув, обнаружил, что под ним оказалась бутылка с горячей водой, которую он тотчас вытащил. Элен позволила ему взять ее за руки.
— Элен, — сказал он, — мужчине нужно немало времени, чтобы научиться верить в жизнь. То есть некоторым мужчинам.
— Да, и… — начала было она.
— Что, милочка?
— Ничего.
— Мне, по-моему, потребовалось много времени. Когда я был мальчишкой — даже потом, когда стал старше, — я считал, что живу. Я кое-что узнал только недавно. Я думаю, с тобой должно произойти что-то ужасное, чтобы ты узнал, насколько ценна жизнь.
Он впервые употреблял такие слова; он сознавал их неполноценность, и он — человек, который всю свою жизнь швырялся словами, — впервые так остро ощутил неполноценность слов. Поэтому он сильно сжал ее руку, погладил пальцы, чтобы возместить недостачу.
— Посмотрите, какой я трезвый, — сказал он.
Такое было впечатление, будто ее хватил удар и она на всю жизнь осталась немой. Он помнил: была статуя женщины, которая стояла одна где-то в лесах его детства, — он запамятовал, где именно, — там было болотистое место, заросшее папоротником и лаврами, и сказочными кольцами росли поганки. Время не уничтожило ее красоты в такой мере, как дождь, поскольку она была из плохого камня, и так жаль, что она не могла говорить, потому что при всех дефектах — испорченных глазах и пострадавших от непогоды волосах — она жаждала, несмотря на монументальное безголосье, спеть песню или сказать слово: ее приоткрытые губы стремились что-то произнести, у нее было живое горло. Лофтис помнил, что он смотрел на Элен. Пытается ли она сказать что-то? Он не мог определить, поскольку свет угасал в комнате. Она прочистила горло, губы ее дрогнули, но она продолжала молчать.
— Вы понимаете, лапочка, что я имею в виду? Скажите, что понимаете. То, что я пытаюсь вам сказать.
А на дворе нельзя было отличить море от неба; там, где залив встречался с океаном, был покрытый пеной риф, буруны разбивались о серый камень — белые и бесшумные как снег. Лофтис снова с любовью в голосе сказал ей, как много она для него значит, как после всех своих ошибок он наконец понял, что его существование бессмысленно, если ее не будет с ним: Долли ушла из его жизни, и ради нее, Элен, он одолел свои слабости — ну, разве этого не достаточно? Он выложил ей все это подавленным голосом, со страстью и отчаянием. По мере того как он говорил, на ее красивом лице с каждой секундой появлялись следы болезненного и решительного отказа понимать его, а по тому, как она стиснула челюсти, он понял, что она по крайней мере слушала его. Он заметил, что в ее волосах молочными нитями заблестела седина.
— Неужели вы не понимаете, что я имею в виду? — снова повторил он, сжимая ее руку, а она — с этими глазами, словно защищенными, как часы, хрустальным стеклом, в котором все еще отражались осколки порожденных нембуталом снов, казалась воплощением «нет», безосновательным и безгласным. Он встал: терпение покинуло его.
— Вы больны, и я сожалею об этом, — с горечью произнес он. — Ну да поможет мне Бог: что еще я могу сделать? Я предлагаю вам себя, и это все, что я могу предложить. Я говорю, что есть вещи, которые могут помочь нам найти путь, — только это и ничто другое, и у меня такое чувство, будто я говорю с чертовым ветром. Вы больны. Конечно, вы горюете, но не одна вы горюете: я тоже внес в это свой вклад. Почему вы считаете, что только вы можете позволить себе роскошь жалеть себя и ненавидеть себя? Почему, Господи? Элен, я предельно выложился, чтобы вы поняли, как мне это важно. Настолько важно, что я готов сделать все, что умею, чтобы вы увидели, что я не сломлен и не такая уж неисправимая развалина, какой вы меня считаете. Я не гордился этим или толком этого не сознавал. Я считал, что наряду со всей дрянью, с которой вам приходилось мириться, я проделал свою долю безобразий, и я готов повесить замок на свой рот по поводу того, что я о некоторых вещах думаю, если только я мог бы изменить ваш образ мыслей. Если вы могли бы понять, что, признавая себя никаким не великим, я полагаю, я по-прежнему готов сделать все, чтобы начать по-хорошему. Великий Боже, Элен, простите меня за то, что я так говорю, если вы настолько больны, как я считаю, но что вы хотите от меня — мое мужское нутро, и мои яйца, и душу? Что, Христа ради, вы хотели получить? Я предлагал вам все, что имею…
Он умолк, поскольку, опустив глаза, обнаружил, что она немного повернулась к нему. Ее лицо утратило жесткость, и он предположил, что, должно быть, наконец пробудил что-то в ее сознании — какое-то воспоминание или признание, ибо что-то рассыпалось в ее глазах. Губы ее снова зашевелились, но она не произнесла ни слова.
Он снова с надеждой склонился над ней.
— Вы не все утратили, лапочка. Я по-прежнему ваш, если вы хотите меня. У вас есть Пейтон. Она любит вас. Мы вместе напишем ей, скажем ей, что все теперь о’кей. Она может вернуться и в будущем году окончить школу, как и следует. Лапочка, если вы только осознаете, что люди любят вас, вы поймете, что впереди у вас многие годы — Господи! — с внучатами… — Погруженный в свою безнадежность, он на секунду увидел роскошную картину чадолюбия, где были дети, десятки детей, розовых игрунчиков на вечно зеленой траве. — Неужели вы не понимаете, Элен? Пейтон не ненавидит вас. Она самое понимающее дитя на свете. Мы с вами должны только довести до ее сознания, как обстоят дела, и тогда все будут счастливы. Элен, вы все, что есть у меня, а я — все, что есть у вас. Если вы мне поверите — да Господи, лучшие годы жизни у нас еще впереди. Говорю вам, Элен, мы сможем побороть страх и горе, и все остальное, если вы только поверите мне и полюбите меня опять. Лапочка, мы никогда не умрем…
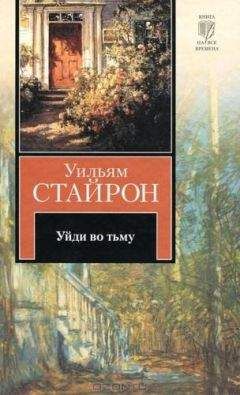



![Ричард Адамс - Обитатели холмов [издание 2011 г.]](https://cdn.my-library.info/books/49785/49785.jpg)
