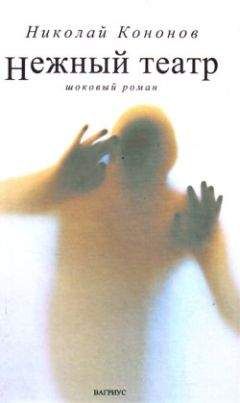И вот я позабыл, как это очарование метастазировало ее лишней тканью, обуявшей все ее телесные и душевные движения, сделав всю ее для меня в конце концов пародийной; словно она проросла сквозь свой прежний облик и, уже не оставаясь в нем, превратилась в препарат прошлой себя, будто сумела сама себя растлить.
Я всегда поражался какому-то древнему слому этого флера, не отталкивающему, а влекущему меня. Думаю, что если бы я не видел от кого такое духовище исходит, то стоял бы себе и вдыхал. Укачивал свой шалеющий мозг архаическим мелосом чужого невидимого тела. Ведь я не различал в этой духоте и тени смрада… Почему-то я точно знал цвет этого запаха. Как странно… Но небесного. Чуть гуще летних небес, так быстро загнивающих к ночи лазуритом. Так значит – Лазаря…
А она говорила на самом деле уплощенно – будто считывала текст, прикопленный к доске объявлений. Я позабыл, позабыл. А когда вспоминаю, звук страдания, родившийся внутри меня, робко перекрывает ход иллюзии. Это мучительно для меня, будто в плохом фокусе переворачивают песочные часы, – и песок струится вверх, не попирая времени этим порочным движением.
Я вспоминал как разглядывал спящую Любу, воображал как мне удавалось легко проницать ее, как я различал состав ее истончающегося тела сквозь стеклянную эпидерму. Ведь время, прошедшее после ее смерти, изобильно приукрашало ее. Моя вина перед ней сублимировала в один сон. Вот он – в кладбищенской в каптерке я дерусь с могильщиком, передвинувшим ограду на Любашиной могиле, подхоронив вплотную к ней мою супругу. «Сука! – стучу я его по морде, – если не передвинешь обратно, я тебя убью! Проверю через неделю!» Но даже во сне я знал, что не проверю никогда.
Надо отметить, что смерть отца и обретение автомобиля, словно поломали во мне простой механизм завода. Все во мне стало работать самопроизвольно, и я перестал вообще-то понимать даже собственные законы. Я ведь догадался, что если не сделаю того, что тайно хочу, то наверняка погибну. Не по произволу своей воли. Меня просто разорвет. О мышах я не помышлял. Меня волновали грызуны покрупнее, живущие во мне. Они ведь точно могли изнутри разорвать мою ветшающую год от года шкуру.
Я люблю один фильм особенно сильно и искренно. Это «Ночной портье» Лилиан Кавани. Особенно сцену любви. Ту самую, с раскалываемой склянкой. В отеле, в комнатке, запертой навсегда. Тот миг, когда я чую, как стекло входит в женскую плоть, в пухлую слабую губу, во мне все стекленеет, и я теряю способность к самоанализу, я перестаю мыслить себя в категориях обыденной логики, я попадаю туда, где жизнь и смерть заодно, где они не преследуют друг друга, а впадают в чуждое, но такое близкое мне русло, глубокое и прекрасное как обморок.
То, что Эсэс отчаянно походит на своего отца, у меня не вызывало никогда сомнений. Хотя я даже не видел его фотографий. Но это было еще и потому, что и ее мать была для нее настоящим отцом. Значит, Эсэс росла двойным сыном, как по закону двойного отрицания, проявив собою истинную глубинную сущность тех, кто ее зачал. Пол ее был неважен.
Одежда отца составляла его статус, и когда он вышел в отставку, – он сам по себе в партикулярном платье стал для меня нереален. Я не мог его таким помыслить. Ведь я часто представлял, как он со мной спорит и критикует. Но уже не грозный Кронос, а просто стареющий мужик, из семени которого я произрос на свет Божий. «И как он умудрился меня породить?» – думал я, измышляя его образ. Но что же было в его военной одежде прекрасного и тяжелого? Того, с чем он хотел моментально с самого порога дома расстаться? Какой смысл она на него налагала? Что несла ему? Что стояло за легким духом дезинфекции и тяжким, особенным, – множества людей; запахом входящим вслед за ним в двери дома?
Ведь и по прошествии стольких лет возраст и тело моего отца всегда стягивались к одной ночной точке и в моем восприятии лишались не только протяженности, но и надежды на какую-либо перемену не своей, нет, а моей участи. Он весь сворачивался и уплотнялся в неизменность. Мне делалось больно от осознания, что это именно я загоняю его в такую непроходимую плотность, но переиначить его я уже не мог.
Я ведь попал в этот госпиталь, этот морг, так как оказалось, что только я один единственный носил отцовскую фамилию. Вся казенная часть его похорон пала на меня.
Когда я понял какой тяжкой болезнью он страдал, свистел своей фистулкой, занавешенной марлевой шторкой, то мне стала понятна и его бессловная речь, которую он, почти всегда при мне молчащий, обращал ко мне, утратив внятность, находясь в вечном ступоре. Но для меня до сих пор более выразительно его тело, нежели слова, так редко порождаемые им. И вот я узнаю его в своей памяти, наделенного не речью, а страданиями и наслажденьем, и более всего – отрицанием и того и другого.
Даже сквозь сомкнутые веки он любовно смотрит на меня и молчит.
Перед самыми похоронами я купил в ближайшей к госпиталю церкви самый маленький беленький крестик. И положил в нагрудный карман отцовского кителя, когда остался один у его гроба. Сквозь плотную ткань я не почувствовал холода его тела. Что-то недвижимо-твердое. Вот и все. За границей температур.
Так вот, после кремации я нашел крестик в своем кармане.
Завернутым в бумажку.
Но ведь на самом-то деле я его положил ему…
И это единственное во всей этой истории, над чем я никогда не задумываюсь.