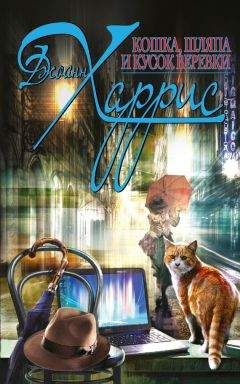Уже темнело, и мрачные силуэты надгробий смутно вырисовывались на фоне сумеречного неба. Не слишком удачное время для фотографирования — если, конечно, не пользуешься вспышкой, которую Жан-Лу называет дурацкой, — но все равно там было очень здорово, необычно, и так красиво выглядела рождественская иллюминация чуть дальше, на Холме, и цветные огоньки сливались с россыпью звезд, уже загоравшихся на небе.
— А ведь люди по большей части никогда ничего этого не видят!
Жан-Лу фотографировал вечернее небо в желто-серых полосах, и гробницы на этом фоне казались силуэтами допотопных судов, стоящих на рейде.
— Именно поэтому я и люблю бывать здесь в такое позднее время, — продолжал он. — Когда уже темно и все расходятся по домам, только тогда становится по-настоящему ясно, что это именно кладбище, а не просто парк, где стоят памятники всяким знаменитостям.
— Ворота скоро закроют, — напомнила я ему.
Ворота на кладбище вечером всегда закрывают, чтобы там не ночевали всякие бродяги. Но некоторые все равно там ночуют — просто перелезают через ограду или заранее прячутся там, где gardien[50] их не увидит.
Сначала я именно так и подумала, увидев его: бродяга, который хочет где-нибудь здесь устроиться на ночлег. Просто тень, скользнувшая за угол одной из гробниц, некто в огромном неуклюжем пальто и шерстяной шапке, натянутой на самые уши. Я тихонько коснулась руки Жана-Лу. Он кивнул и прошептал:
— Приготовься — и бежим.
Нет, я вовсе не так уж испугалась. По-моему, бездомный человек ничуть не опаснее тех, у кого есть нормальное жилье. Но мы ведь никому не сказали, что пойдем сюда, а я точно знала: мать Жана-Лу просто в обморок грохнется, если ей станет известно, куда ее сынок по вечерам после школы ходит.
Она-то считает, что Жан-Лу торчит в шахматном клубе.
«Вряд ли она хорошо его знает», — подумала я.
Итак, мы были готовы бежать, если этот человек вздумает хоть немного к нам приблизиться. И тут он вдруг обернулся. Увидев его лицо, я невольно вскрикнула: «Ру?!»
Но, едва услышав мой голос, он мгновенно исчез — скользнул куда-то между гробницами, быстрый, как кладбищенский кот, и бесшумный, как призрак.
13 декабря, четверг
Сегодня заходила мадам Люзерон; она принесла кое-какие вещички для святочного домика: игрушечную мебель, тщательно упакованную в мягкую бумагу и уложенную в коробки из-под обуви, — четыре кровати с вышитым пологом, обеденный стол с шестью стульями, светильники, ковры, зеркало в позолоченной раме — и несколько маленьких куколок с тонкими фарфоровыми личиками,
— Я не могу допустить, чтобы вы расстались с этой прелестью, — сказала я, когда она разложила все это на прилавке. — Такие чудные старинные вещички…
— Но это ведь всего лишь игрушки! Можете совершенно спокойно держать их у себя, сколько хотите.
И я расставила игрушечную мебель в домике, где сегодня как раз открылась вторая дверца. За ней теперь видна очаровательная сценка: маленькая рыжеволосая девочка (одна из тех деревянных куколок, которые смастерила Анук) стоит и восхищенно смотрит на целую гору спичечных коробков-подарков, каждый из которых старательно завернут в цветную бумагу и перевязан ленточкой.
Ну да, ведь у Розетт скоро день рождения. И праздник, к которому Анук так старательно готовится, отчасти к этому и приурочен; а отчасти, по-моему, нам с Анук обеим хочется вернуть былые (возможно, воображаемые) времена, когда Святки означали не просто елочную мишуру и подарки и наша вполне реальная жизнь была куда ближе к тем милым сценкам, что разыгрываются сейчас у нас в витрине вокруг святочного домика, чем к дешевому шику парижских улиц.
Дети так сентиментальны. Я пыталась как-то сдержать энтузиазм Анук, объяснить ей, что праздник — это просто праздник и с какой бы любовью ты его ни планировал, он не в силах вернуть прошлое, или изменить настоящее, или хотя гарантировать, что завтра пойдет снег.
Но мои увещевания ни к чему не привели, если не считать того, что теперь она предпочитает обсуждать детали предстоящего праздника не со мной, а с Зози. Вообще-то я давно заметила: с тех пор как Зози переехала к нам, Анук большую часть своего свободного времени проводит у нее в комнате — примеряет ее туфли (я не раз слышала стук высоких каблуков по деревянному полу), обменивается с ней «секретами» и шутками; и они подолгу беседуют — интересно, о чем?
До определенной степени это даже трогательно. Но какая-то часть моей души — ревнивая, неблагодарная ее часть — твердит, что меня попросту отстранили, отставили в сторону. Очень хорошо, конечно, что Зози у нас появилась, она стала мне хорошим другом, не раз присматривала за детьми, помогла полностью переустроить магазин, и мы теперь начали сводить концы с концами…
Но я же вижу, что происходит! Я ведь, если захочу, могу разглядеть и то, чего не замечают другие люди. Я давно, например, заметила этот волшебный отблеск на стенах, я слышу перезвон волшебных колокольчиков в витрине, я вижу магические амулеты над дверью, которые сперва ошибочно приняла за рождественскую гирлянду; замечаю я и всевозможные магические символы, да и эти деревянные куколки в святочном домике тоже неспроста. Все это обычная, повседневная магия, которая, как я думала, давно уже перестала пускать побеги в каждом углу моего дома…
«А что в этом такого плохого?» — спрашиваю я себя. Это же не настоящее колдовство — так, просто несколько магических фокусов, несколько символов на счастье. Моя мать на подобные вещи и внимания бы не обратила…
Но я не могу избавиться от какого-то неприятного чувства. Ведь ничего не дается нам просто так. И я, как тот мальчик из сказки, который продал свою тень, дав всего одно обещание, думаю: если и впредь закрывать глаза на условия этой сделки, соблазнившись предоставленным мне кредитом, то мне очень скоро придется уплатить сполна…
Какую же цену ты назначишь, Зози?
Скажи, какую?
К вечеру тревога моя только возросла. Словно что-то висело в воздухе, словно сам этот тусклый зимний свет о чем-то свидетельствовал. Мне вдруг очень захотелось, чтобы рядом оказался кто-то близкий — но кто именно, я не могла бы сказать. Может быть, моя мать, или Арманда, или Фрамбуаза. Кто-то простой и понятный. Кто-то такой, кому можно доверять.
Тьерри звонил дважды, но я блокировала его звонки. До него никак не доходит. Я пыталась сосредоточиться на работе, но по какой-то причине все шло вкривь и вкось. Я нагревала шоколад то слишком сильно, то слишком слабо, доводила молоко до кипения (чего делать нельзя), клала в тесто для ореховых роллов перец вместо корицы. К середине дня голова у меня окончательно перестала соображать и разболелась; я оставила Зози хозяйничать, а сама вышла подышать свежим воздухом.
Я шла куда глаза глядят, без всякой цели. И уж разумеется, я не стремилась попасть на улицу Святого Креста, но именно там минут через двадцать я и оказалась совершенно неожиданно для себя. Небо над головой было хрупким и синим, как китайский фарфор, но солнце висело слишком низко, чтобы согревать, и я была рада, что надела теплое пальто — грязно-коричневое, как и мои туфли. Оказавшись в тени Холма, я поплотнее запахнула полы пальто и наконец поняла, где нахожусь.
«Нет, это же просто совпадение!» — сказала я себе. Ведь я целый день о Ру даже не думала. И сразу увидела его — он стоял у дверей подъезда в рабочих башмаках, комбинезоне и черной вязаной шапке, под которую спрятал свои рыжие волосы. Ру стоял ко мне спиной, но я его сразу узнала — в его повадке есть что-то особенное, и движется он всегда ловко, легко, но без спешки. Я видела, как напрягаются крепкие мышцы у него на спине и плечах, когда он бросает ящики и коробки со строительным мусором в контейнер, стоящий у тротуара.
Я инстинктивно шагнула в сторону и спряталась за припаркованным фургоном. Внезапность встречи с Ру, изумление, вызванное тем, что я невольно оказалась именно в том месте, куда, как меня предупредила Зози, мне пока лучше не ходить, — все странным образом совпало, и этого оказалось вполне достаточно, чтобы я насторожилась. Теперь я наблюдала за Ру, выглядывая из-за автомобиля и в своем ужасном пальто почти сливаясь с его грязным боком; сердце молотом стучало у меня в груди. Может быть, заговорить с ним? Но хочу ли я этого? И вообще — что он столько времени делает в Париже? Он, человек, который ненавидит город, ненавидит шум, презирает богатство и благополучие, предпочитает крыше дома открытое небо…
И тут из подъезда вышел Тьерри. Напряжение меж ними было столь велико, что даже я его почувствовала. Тьерри разговаривал с Ру резко, раздраженно, лицо у него побагровело, потом он махнул рукой и явно велел Ру снова вернуться в квартиру.