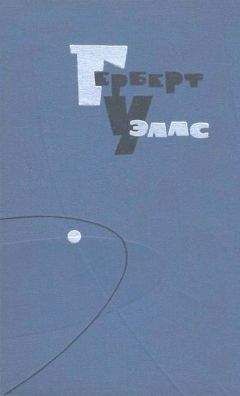«Сто лет тому назад» — автореминисценция из стихотворения 1917 года «Кассандре», в котором революционное настоящее России соотносится с ее прошлым столетней давности: «Больная, тихая Кассандра, / Я больше не могу — зачем / Сияло солнце Александра, / Сто лет тому назад сияло всем?» [40] Относительно «солнца Александра» на сегодня, с учетом всех аргументов, можно сказать, что это «одновременно, по принципу наложения» [41] , солнце Александра Пушкина и Александра I, причем имплицитно здесь присутствует чрезвычайно значимый для Мандельштама образ погасшего или ночного солнца —
ср. с пушкинским стихом «Померкни, солнце Австерлица!» («Наполеон», 1921) и с мандельштамовской фразой из «Шума времени»: «Ночное солнце в ослепшей от дождя Финляндии, конспиративное солнце нового Аустерлица!» Так что образ «ночного солнца», прежде всего относящийся к Пушкину в поэзии Мандельштама, оказывается косвенно связан со всей Александровской эпохой и персонально с Александром I. Но вспомним уже цитированное из «Прибоя у гроба»: «Революция, <…> вот самая великая твоя очередь, вот последняя твоя очередь к ночному солнцу, к ночному гробу…» Все эти тонкие словесные связи и переклички ведут нас к одной мысли: Мандельштам, хороня революцию в лице Ленина, отсчитывает назад революционный век России к его исходной точке — к смерти императора Александра I в 1825 году, именно о ней он и говорит в 4-й и 5-й строфах стихотворения. Первый революционный хмель — это декабризм, последний — ленинская революция, и вот «глиняное тело» века «странно вытянулось» между двумя этими событиями российской истории.
«Хмель» декабризма Мандельштам передал в стихотворении «Декабрист» 1917 года в образе голубого горящего пунша, заимствованного из пушкинского «Медного всадника» [42] , там же есть и тема «похода мирового» русской армии во время войны с Наполеоном, то есть, как писал Жирмунский, воссоздано «настроение <…> зарождающегося русского либерализма» [43] . В 4-й и 5-й строфах «Современника» Мандельштам отсылает к этому пучку мотивов. Первый этап либерализма, первый революционный хмель кончился со смертью Александра I и последовавшей сразу за тем декабрьской катастрофой. Восприятие Мандельштамом фигуры Александра I было в немалой степени обусловлено тем воздействием, какое оказали на него в юности исторические сочинения Мережковского, в частности — роман «Александр I» (1911—1912, отд. изд. 1913) из трилогии «Царство Зверя». Следы чтения этого романа, как и пьесы «Павел I» и романа «Антихрист (Петр и Алексей)», заметны в ряде стихов Мандельштама, о чем уже не раз писалось [44] ; самый очевидный и яркий пример — стихотворение «Заснула чернь! Зияет площадь аркой...» (1913), которое вообще не поддается прочтению без учета трилогии «Царство Зверя».
Александра I в одноименном романе Мережковского постоянно мучит страх мятежей и заговоров, тайных обществ, страх возмездия за отцеубийство 11 марта 1801 года — от этих страхов, по сюжету романа, он и умирает, причем умирает «на узкой железной походной кровати» [45] , с которой не расставался всю свою жизнь. Эта самая походная кровать лейтмотивом проходит через весь роман, приобретая значение мрачного символа крови и насилия как движущих факторов русской истории; в этом качестве походная кровать переходит и в следующий роман трилогии — «14 декабря», связывая в одну цепь судьбы трех российских императоров — Павла I, Александра I и Николая I [46] . Впервые она упоминается в седьмой главе первой части романа «Александр I»: «Лег. Постель односпальная, узкая, жесткая, походная, с Аустерлица все та же: замшевый тюфяк, набитый сеном, тонкая сафьянная подушка и такой же валик под голову» [47] . На этой постели он переживал все свои страхи — по ночам ему казалось, что его ждет судьба отца и повторение страшной ночи 11 марта. Незадолго до смерти Александр I попадает в комнату Павловского дворца, где хранились вещи убитого императора Павла I: «…там узкая походная кровать. Государь побледнел, и зрачки его расширились, как зрачки мертвеца, видящие то, чего уже никто не видит; вдруг наклонился и как будто с шаловливою улыбкой поднял одеяло. На простыне темные пятна — старые пятна крови.
Услышал шорох: рядом стоял Саша (будущий император Александр II. — И. С. ) и тоже смотрел на пятна; потом взглянул на государя и, должно быть, увидел в его лице то, что тогда, в своем страшном сне, — закричал пронзительно и бросился вон из комнаты.
Над обоими, над сыном и внуком Павловым, пронесся ужас, соединивший прошлое с будущим» [48] .
Дальше по сюжету Александр заболевает в Таганроге, болеет на той же «узкой походной кровати, на которой он всегда спал» [49] , долго и подробно описывается процесс умирания императора, — после смерти «обмытый, убранный, в чистом белье и белом шлафроке, он лежал там же, где умер, в кабинете-спальне, на узкой железной походной кровати. В головах — икона Спасителя, в ногах — аналой с Евангелием. Четыре свечи горели дневным тусклым пламенем, как тогда, месяц назад, когда он читал записку о Тайном Обществе. В лучах солнца (погода разгулялась) струились голубые волны ладана» [50] . Последующие страницы посвящены манипуляциям с телом (бальзамирование и т. п.), которое не раз описывается как «что-то длинное, белое» [51] , со всеми подробностями, да еще и с замечанием, что «все части могли бы служить образцом для ваятеля» [52] («странно вытянулось глиняное тело»), — так что эти финальные, невольно врезающиеся в память эпизоды романа, с учетом всего его сюжета и вообще художественной историософии Мережковского, могли отозваться в 4-й и 5-й строфах «Современника». Другое дело, что в поэтической ткани стихотворения эти мотивы преображаются и вступают в совершенно новые художественные связи, но сама историческая аналогия с сегодняшним днем России могла быть подсказана давним впечатлением от чтения Мережковского. Отдаленным намеком на такую аналогию звучат уже приведенные нами слова Мандельштама о похоронах Ленина (в передаче Надежды Яковлевны): «Мы возвращались пешком домой, и Мандельштам удивлялся Москве: какая она древняя, будто хоронят московского царя» [53] . Мысль его искала закономерностей и повторов в происходящем.
«Давайте с веком вековать» — в контексте всего сказанного это звучит обреченно — давайте умирать вместе с этим веком, который начался декабристским хмелем и умирает сегодня на наших глазах. По сути это та же клятва верности, какая звучит в «1 января 1924», — верности веку-зверю с разбитым позвоночником, веку, с которым поэт связан кровным родством и который еще не обернулся для него «веком-волкодавом», как будет через несколько лет.
Если теперь вернуться к параллельному «Прибою у гроба», то придется снова убедиться, насколько этот небольшой газетный очерк оказывается семантически сложным текстом. О. А. Лекманов заметил в нем «неожиданную автоцитату из стихотворения „Нет, не луна, а светлый циферблат…” — „Который час?”, его спросили здесь — / А он ответил любопытным: „вечность” <...> — Который час? Два, три, четыре? Сколько простоим? Никто не знает. Счет времени потерян. Стоим в чудном ночном человеческом лесу» [54] . Если осмыслить это наблюдение, то цепь наших рассуждений замкнется — ведь в опущенном, но подразумеваемом здесь ответе «вечность» заключена мысль о той самой исторической вечности России, о которой думает Александр I, герой все того же одноименного романа Мережковского: «Часы опять пробили. „Который час? — Вечность. — Кто это сказал?
Да сумасшедший поэт Батюшков, — намедни Жуковский рассказывал… Час на час, вечность на вечность, рана на рану — 11-е марта… Нет, не надо, не надо”…» [55] . Именно к этому внутреннему монологу царя у Мережковского (а не к мемуару немецкого врача Батюшкова, напечатанному на немецком языке в юбилейном издании его сочинений 1887 года [56] ) текстуально восходит мандельштамовское стихотворение 1912 года «Нет, не луна, а светлый циферблат…» [57] , и скорее всего Мандельштам в «Прибое у гроба» вспоминает не столько свое стихотворение, декларирующее отход от символизма, сколько этот эпизод из романа Мережковского о переворотах как двигателе российской истории («ход воспаленных тяжб людских»).
Очерк «Прибой у гроба» заканчивается темой жизни после смерти: «И мертвый — он самый живой, омытый жизнью, жизнью остудивший свой воспаленный лоб»; тема эта постоянно звучала в газетной риторике тех траурных дней («Ленин — нетленен!») и в художественных произведениях о смерти Ленина [58] . Мандельштам воплотил ее в центральном образе очерка — образе прибоя у гроба: толпы людей предстают волнами жизни, омывающими гроб вождя и как бы обеспечивающими ему бессмертие. Но ведь и в конце стихотворения о «современнике» звучит та же тема жизни после смерти: «Век умирает — а потом…» — и дальше возникает удивительный образ засмертного свечения: «Два сонных яблока на роговой облатке / Сияют перистым огнем». Какая-то высшая жизнь как будто пробивается сквозь смерть. В сочетании с яблоками и облаткой как атрибутом причастия это сияние напоминает о мандельштамовском стихотворении 1915 года «Вот дароносица, как солнце золотое…» или «Евхаристии» — с его темой приобщения к вечности и с образом чудесных эманаций в заключительных стихах: «И на виду у всех божественный сосуд / Неисчерпаемым веселием струится». Веселие или свечение исходит от золотого сосуда евхаристии, уподобленного яблоку в начале стихотворения, и символизирует прорастание временного в вечное. Что-то подобное происходит и в финале «Современника» — тело века умирает, но его сонные яблоки излучают вневременный свет.