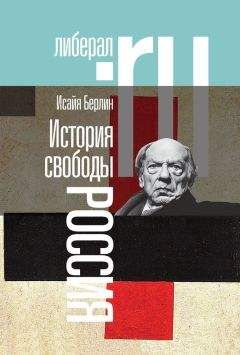– Как душно здесь, – сказала Руфина, входя, красивая, голубоглазая, – окно заперто… – И она распахнула окно.
Июльская лунная теплынь мягко, по-птичьи впорхнула в воспаленную комнату Савелия и, казалось, шепнула на ухо Савелию нечто неразборчивое… В центре каменной, бесплодной Москвы запахло вдруг яблоком, не прелым яблоком с лотка, а живым яблоком, орошенным ночным дождем. Так пахнет жизнь. А запах жизни и взгляд любимой женщины, одновременно совпавшие, – это уже то безумие, без которого невозможно плодоношение. Безумие подняло Савелия, измученного с позднего детства своего застенчивым грехом мальчика-затворника, и понесло с распростертыми руками навстречу женщине. Однако в тесной комнате, уставленной колбами и пробирками, он зацепился ногой за какой-то предмет, который потом не мог обнаружить, и упал, сильно ударившись коленом. Руфина засмеялась, провела сладкой ручкой своей по волосам его, отчего тело его покрылось, как на холодном ветру, мурашками, гусиной кожей, и вышла. Савелий лег не раздеваясь на койку и, не закрыв окна, уснул, измученный. Проснулся он внезапно, словно от выстрела. То античник Иловайский хлопнул дверью. Хмельно разругавшись с Клавдией и находясь в вольтеровском состоянии, вышел он побродить по городу. Войдя в метро, он опустился на сиденье. Едва поезд тронулся, как Иловайский бешено, но безвольно замотал седой головой то влево, то вправо, зажав в кулаке очки без футляра и пугая окружающее мирное население своим желтым лицом. Выйдя на конечной остановке, он, вихляя, пошел в толпе, но к выходу не дошел, глянул по-бараньи, выкатив глаза сверху вниз, на каких-то женщин, сидевших на одной из скамеек, и уселся рядом на свободный краешек, подперев ладонью провисающую, точно готовую сорваться с шеи, голову.
А Савелий, ненадолго разбуженный, вновь крепко уснул. Снился ему сон сперва жутко комический, потом просто жуткий. Вначале снится: идет он по улице, и на заборе мелом написано – «зарежу». Поворачивает он за угол, и там опять мелом надпись – «верь, зарежет». Потом снится: тошнит его каким-то веществом, напоминающим вату, и маленькие частички этой ваты во время тошноты летают вокруг него. Сделав над собой усилие и проснувшись, как делает усилие тонущий, чтобы вынырнуть, Савелий действительно ощутил подкатившуюся снизу, от живота, тошноту. Зажег ночник, встал и торопливо подошел к колбе, где находился менструм, и к колбе, где была частица куриного яйца, сбрызнутого менструмом из крови и росы. Пузырек-зародыш поднялся кверху, да не просто пузырек, а уж нечто развившееся за ночь, с жилками. Тогда дрожащими руками, негнущимися пальцами, холодея от страха уронить колбу, откупорил Савелий меструм и влил туда, где был зародыш, немного менструма, предварительно подогрев на спиртовочке.
С этого момента жизнь Савелия потеряла всякий смысл для него помимо опыта. Строго исполняя предписание, он старался не шевелить крепко закупоренную колбу. Не выходя из дома, побледнев и потолстев от малоподвижного своего поведения, следил он, как бродит в колбе концентрат и пузырек становится все больше. За месяц четыре раза вливал он менструм, все увеличивая порции. И вот свершилось, как предсказывалось в алхимической книге. «После сего времени, когда услышишь нечто шипящее и свистящее, то подойди к колбе, и к великой радости и удивлению твоему ты увидишь в ней две живые твари. Ежели от целомудренной крови они, то будешь радоваться ими и взирать на них с сердечным веселием. Но они будут не выше одной четверти аршина, однако же шевелятся и движутся, и ходят взад и вперед по колбе. В середине же вырастет деревце, украшенное всякими плодами».
Так все и случилось. Менструм Савелий подливал отныне через трубочку с зажимом резинкой, ибо знал, что воздух, которым дышит обычный человек, вреден для крошечных мужчины и женщины, живших в его колбе. Вокруг них выросло много трав и деревьев, от которых они питались, и к Савелию они относились со страхом и почтением. Решил Савелий воспользоваться этим страхом и почтением, узнать у философских человечков то, что хотелось ему узнать. Спросил Савелий:
– Каковы главные идеи мира?
Ответил философский мужчина, тогда как философская женщина сидела в колбе подле него и его ласкала:
– Главные идеи – это идея Времени и идея Пространства. Идея Времени – религиозная, идея Пространства – атеистическая. Идея Пространства родила философию и науку, идея Времени – религию и искусство. Однако позднее произошло кровосмешение. Идея Простран-ства – созерцательная, и человек способен достичь в ней иллюзии равенства с Богом. Идея Времени – деятельная, человек чувствует в ней свою слабость перед Будущим, зависимость от Будущего и нуждается в помощи Господа. Буддизм и античность – идеи Пространства. Библия – идея Времени. Когда разбита была Чаша, христианский мир из временного все более становился пространственным. В идее Пространства, идее настоящего, идее красоты, гений достигает величия, но предела своего он все-таки достигает в идее Времени, идее Будущего.
Тогда спросил Савелий:
– Что есть мир философский и что есть мир религиозный?
Ответил мужчина из колбы:
– Философский мир – это мир Единства, религиозный мир – это мир Полярности. В философском мире все исходит от Единого и возвращается к Единому. Это мир Человека-бога. В религиозном мире основное навек разделено пропастью. Это Божий мир. Небо и Земля, Бог и Человек, Жизнь и Смерть… То, что по эту сторону пропасти, доступно пониманию, то, что по другую сторону пропасти, доступно домыслу. Но связи между Богом и Человеком, Небом и Землей, Жизнью и Смертью недоступны ни пониманию, ни домыслу. Смешение религиозных и философских понятий есть прием условный, научный, плодотворный в частности, но затемняющий суть…
Тогда спросил Савелий:
– Каковы пути к Богу?
Ответил философский человечек из колбы:
– Три пути к Богу: Вера, Неверие и Сомнение. Вера – путь самый простой, распростра-ненный и непрочный. Это путь церкви. Неверие – путь самый опасный, хоть и плодотворный. Это путь тех земных гениев, которые на личном пути к Богу сеют атеизм среди слабых. Путь Сомнения – путь праведников, путь Иова. Это самый тяжелый путь через каждодневный духовный труд. Это медленный, но прочный путь.
Тогда спросил Савелий:
– Как отличить Доброе деяние от Злого, ибо в мире Злое часто в Доброй личине, а Доброе – в Злой? Ответил человечек из колбы:
– Если то, что ты делаешь и чему учишь, тяжело тебе, значит, ты делаешь Доброе и учишь Доброму. Если учение твое принимают легко и дела твои легки тебе, – значит, ты учишь Злому и делаешь Зло.
Тогда спросил Савелий:
– Что есть Истина?
Ответил человечек:
– Нет одной Истины для человека, но нет и трех Истин. Истины две – подлинная и ее зеркальное отражение. Человеку не дано отличить, которая из них Достоверная, которая Легендарная, однако следует сделать выбор и, ища Достоверную, не переходить к Легендарной, а ища Легендарную, не переходить к Достоверной. Не отрекаться от своей и не искать третьей, ибо нет ее…
Тут оборвался разговор Савелия с философским мужчиной из колбы, так как мать позвала обедать, а Савелий не мог отказаться, чувствуя вдруг сильный голод. Уходя, он видел лишь, как женщина в колбе прильнула к усталому от речей своих мужчинке и начала его ласкать.
При искусствоведе Иволгине Алексее Иосифовиче, портрет которого стоял раньше на письменном столе, ныне же был перевешен на стенку, Клавдия никогда не была хорошей кулинаркой. Правда, бычье мясо она могла неплохо обжарить, но борщ готовила солдатский, с твердой капустой, а на второе – чаще всего сардельки или котлеты с макаронами. Нового же мужа своего Иловайского, которого она обожала, хоть и препиралась с ним из-за его дурного характера, Клавдия баловала вкусной едой, говоря при этом со слезой:
– Он ведь там, в концлагере, соленой рыбы наелся, наголодался.
Баловала она его разной едой, но особенно получалась у нее национальная еда, белорусская. Щи кислые с грибами или кашей гречневой, печень по-гомельски, тушенная рулетом с салом, луком и кореньями, дрочены картофельные со свининой, сырой картофель со свининой, мукой и кореньями, запеченный в духовке.
Вкусна была еда и на сей раз, так что Савелий, невзирая на тяжелый умственный труд, ел с аппетитом, и головная боль его несколько ослабла. Однако он помнил, что не все понял из объяснений мужчинки в колбе и не все у него спросил. Потому поел Савелий наскоро и, утершись салфеткой после тяжелой сальной пищи, удалился вновь к себе и заперся на ключ.
– Что такое добрый человек? – спросил он у мужчинки в колбе.
– Добрый человек – это не Божий человек, – ответил мужчинка, – в доброте нет Божьего, это слишком мелкое для Бога чувство, но оно самое необходимое грешному маленькому человеку. Гораздо более необходимое, чем Правда и Духовное богатство. Добро и Доброта – разные вещи. Гений не может быть добрым человеком, ибо он служит Богу, добрый человек не может быть гением, ибо он служит человеку. Добрый человек редко вносит в мир добро, ибо к нему тянутся люди дурные, растратившие себя, потерявшие себя, капризные, жад-ные, требовательные, и добрый человек при них не как врачеватель, а как сиделка при духовно неизлечимых. Добрый человек – это безымянный праведник, готовый полностью отказаться от себя, потому гений и пророк не могут быть добрыми людьми, ибо они тогда согрешат против Бога, отказавшись от Божьего, свыше им данного, ради людского несовершенного и преходяще-го. То хорошее, что появилось в мире, совершено не добрыми людьми, а пророками – врачева-телями и гениями, – накопителями духовных богатств. Горечь правды лечит мир, беспощадное прозрение гения, но не доброта. Доброта не лечит мир, но она утешает и спасает от одиночества грешного человека, а значит, укрепляет падший мир, не даст погубить себя телесно, ибо доброта не духовное, а телесное чувство. Она стонет вместе с больным, жаждет вместе с жаждущим, голодает с голодным, выслушивает чужие ропоты и невзгоды. К ней тянутся и от нее требуют безвозмездно и неблагодарно тем более, чем она дает. Мир остается злым, но благодаря доброте он существует и не погибнет от собственной злобы. Подлинный христианин – это добрый человек любой религии, но подлинный иудей – это гений и пророк любой религии. Проанали-зируйте любого гения, и вы найдете в нем иудейское начало, даже если иудаизм он отвергает. Иудаизм гораздо ближе к Богу, чем христианство, христианство ближе к человеку. Но добрый человек, как и гений, – явление редкое, поэтому подлинных христиан, как и подлинных иудеев, мало. Большинство лишь так именует себя, чаще в силу рождения, реже – в силу обстоятельств. Главная неправда христианства в том, что, по его утверждению, служа человеку, можно служить Богу. Другое дело, что Господь в силу грехов людских одобряет и этот путь, хоть он далек от Божьего. Господь ведь тоже несколько раз менял Свои решения. Он создал человека, не предвидя последствий. Когда же создал и увидел, что получилось, то решил уничтожить творение Свое. Сперва изгнал из рая-Эдема, потом увидел, что это еще более усилило грех, вовсе решил разрушить жизнь. Но после первого праведника – Ноя, первого Спасителя, которого Бог не осмелился погубить и из-за него спас и остальной мир, понял Господь, что человек не способен любить Его не в силу злого умысла, а в силу своего ничтожества. На это способны лишь гении и пророки. Тогда решил он послать Мессию – Христа, чтоб подменить для грешника идеал Любви. Если не могут они любить Бога, то пусть хоть любят друг друга. И на этом идеале была построена цивилизация. Не гении во главе угла ее – не пророк, а добрый человек, который не служит Богу. Будучи слепым и неразумным, он одинаково раздает себя всем, но более умело берут его злые. Значит, доброта плодит зло, ибо она слышит не Бога, а свое слепое сердце. Те, кто более всего нуждается в доброте, наиболее обделены ею. Христианство построило цивилизацию, потому что оно дальше всех отступило от Бога и благодаря идеалу доброты сумело увлечь за собой наиболее цепких, сильных, голодных и злых, то есть тех, кто более других этим идеалом был обделен. Только гении не участвовали в этой игре. Игра эта основана на лжи, что, служа человеку, ты служишь Богу. Человек, живущий по Божьим Заповедям, которые крайне просты, не нуждается в христианстве. Но поскольку грешник не способен исполнить «не убий», «не укради», «не прелюбодействуй», он спасается в христиан-ских неопределенностях. Меж массой и личностью всегда пропасть. Масса живет по привычке, и для массы христианство – благо. Трагедия же для тех, кто пытается быть сознательным христианином. Правда, и здесь ловкачи находят выход: «Я стремлюсь, но не готов». Христианство – наиболее умелая игра на грани безбожия. Иудаизм не способен на такую гибкую игру, для этого он слишком серьезен. В христианстве же можно очень сильно верить, будучи неверующим и используя эти преимущества, ибо христианская вера крайне диалектична. Борьба и поиски в Вечном, Незыблемом, в том, в чем ни борьбы, ни поисков быть не должно, – вот драматургия христианской жизни. На первый взгляд может показаться, что христианство – учение идеалистическое, не учитывающее природы человека. Человек зол, а оно проповедует идеалистическое добро. В действительности это не так. Идеалистическое учение способно создать религию или культуру, но оно не способно создать ни мощные империи, ни земные цивилизации. Как раз христианство весьма умело использовало подлинную природу человека. Ибо первоосновой человека является все-таки не зло, а легкомыслие. Предельное легкомыслие – основа христианского чувства, и оно соответствует падшему миру. Ясно, что Христос не был христианином и даже не слышал при жизни этого термина, но Он понял, что надо легкомыслен-ной природе человека. Не Христос, а христианство построило цивилизацию. Сам Христос был человек острый, глубокий, общающийся с Богом. Христос считал себя иудеем и был иудей из секты фарисеев. Но серьезная заслуга христианства в том, что, ничего не изменив в злом, ненавистном ему языческом мире по сути, оно, тем не менее, создало видимость полной перемены. Этому, в свою очередь, научился у христианства и социал-атеизм в момент своего господства. Он сумел сохранить порядок в падшем мире, многое изменив по форме и ничего не изменив по сути. Иудаизм не смог бы так, слишком велик разрыв меж ним и язычеством, идолопоклонством, слишком сильно взаимное отвержение. Бог велик, человек грешен, вот почему иудаизм – религия гения и пророка – сохраняет Бога для человека, а христианство – религия безымянного, неразумного, доброго человека, добровольного мученика, отрекающегося от себя во имя иных, неблагодарных, – спасает в легкомысленном падшем мире человека для Бога. Спасает если не духовно, что хотя бы телесно. К христианской телесности мир не только привык, но и полюбил ее. Христианскую телесность менять не следует, но суть христианства следует понять сегодня и видоизменить. Суть же ее состояла в течение пятнадцати веков в противоборстве с библейским корнем своим.