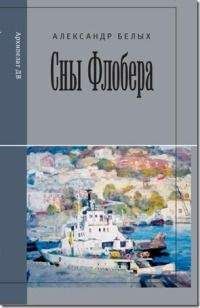— Ты знаешь, я всё — всё, до последнего слова, записала на автоответчик. Твой разговор с Богом. Я буду его слушать всякий раз, когда…
— Когда что?
— Когда тебя не будет, ты ведь должен скоро покинуть меня. Я буду тосковать без тебя, вот и буду слушать твой голос, записанный на автоответчик.
— А мои разговоры с той русской женщиной вы тоже записали?
— Да, это случилось нечаянно. Я подняла трубку, когда ты разговаривал, и я не стала прерывать вас, и случайно нажала на «запись». Другой раз, когда прослушивала автоответчик, то услышала ваш разговор. Я не стала стирать. Меня это так умиляет. Мне кажется, ты её любишь. Мне стало так одиноко. Я хотела бы оказаться на её месте. В той далёкой и холодной России, быть той женщиной, которой говорят все эти слова…
Кошка по имени Мёбу спрыгнула с груди императора и вышла из опочивальни. Император тоже поднялся и пошёл следом. Кошка привела его в апартаменты императрицы. Она лежала за прозрачным пологом, ниспадавшим туманной дымкой над постелью.
— Вы позволите, императрица, возлечь с вами? Мне стало одиноко без вас. Простите меня, это, наверное, по моей вине вы страдаете. Мне хочется осчастливить мой народ наследником. Ведь это наш долг!
— Когда вы идёте исполнять свой долг, я не могу осмелиться воспротивиться вашей просьбе. Я покорно стерплю все ваши потуги, и буду молиться все время, пока вы будете совершать своё императорское назначение. Как мне лучше расположиться?
— Знаете, чтобы божественное семя не пролилось, удобно ли будет вашему величеству опереться на конечности?
— Ради всего святого…
* * *
А следующей ночью Марго приснилась чайная церемония в Угуису — дани.
Чайный павильон был таким маленьким, что невольно на ум приходило сравнение с конурой. Почему‑то запускали не с главного входа, а с задворок, где в стене на углу домика было квадратное отверстие (вроде окошка) такого размера, что войти в него можно было только, если стать на четвереньки, оставив обувь снаружи. Внутрь вползали по очереди — человек десять, дамы в изысканных кимоно и трое мужчин в европейских костюмах.
За время церемонии у Марго затекли ноги. Она с нетерпением ждала, когда всё это закончится. Наконец, чашка с чаем дошла до её рук. Вдруг её охватила немота. Марго не смогла произнести ни слова восхищения глиняной чашкой. Вскоре появилась служанка со сковородой — на ней дымилось сердце. Служанка сказала:
— Вот, собачье сердце, — сказала служанка и удалилась.
Кто‑то посторонний сказал:
— Важно не то, каким ты лицом, а каков ты по натуре, тем и быть тебе после смерти.
Откуда ни возьмись, в отверстие в деревянной стене влетела черная гладкошерстная собака — та самая, что была съедена накануне в корейском ресторанчике. И то была уже не собака, а киноцефал Орест. Следом за ним вбежал Флобер. «Как пёс на блевотину ко греху возвратихся» — проурачли они над её ухом.
…Вечером другого дня по всем каналам показали страшные новости. В объективе камер был Владивосток. Марго, в ужасе схватившись за голову и уже не понимая смысла комментария, смотрела одну повторяющуюся каждый час видеокартинку. Это была техногенная катастрофа: то ли взорвалась атомная подводная лодка, то ли взлетели в воздух военные склады, то ли ядерные отходы выплеснулись из проржавленных резервуаров.
Город взрывался, стоял в руинах. Единственным зданием, оставшимся невредимым, было здание тайной полиции на полуострове Эгершельда, в котором сохранились досье на всех героев, в том числе и на сочинителя, выходящего тем временем из метро, кажется, на станции «Площадь Италии», аргентинской столицы, а также, не сомневайтесь, на читателей.
* * *
…После смерти душа Флобера странствовала в поисках надёжного пристанища. Собачья интуиция вовсе даже не подарок для сочинителя, а сущий ад! Ибо знать будущее и прошлое (а это знание сродни deja vu), есть испытание на здравый рассудок.
Язык сочинителя не поспевает за интуицией Флобера. Все, кого Флобер коснулся нечаянно, лизнул в щёку или облаял, озарялись его интуицией. Он входил в сновидения персонажей, одних одаривая прозрением, а других помутнением рассудка.
Вдруг слова в романе оскалились, зарычали, затявкали, залаяли. У каждого слова был свой гонор, свои повадки, своя порода. Поводок ослаб в руках сочинителя, и свора беспризорных слов помчалась со всех ног, сбивая прохожих, а кое — кого кусая за лодыжки. Пёс странствует в душах людей…
Нет, я не пишу, я танцую на этих разбросанных повсюду листах танго, аргентинское танго. Танец — идеальная форма стихотворения. Прежде звучит музыка — бандонеон, виолончель, гитара, пианино, а потом уже приходит слово как первый робкий шаг.
У него, у Фабиана в квартире в Старом Палермо висела под стеклом картина неизвестного мне художника — Карлоса Алонсо. Акварельная трёхцветная палитра, несмешанные краски: черный, синий, белый. На шахматном фоне квадрата изображены мужские руки (сам человек находится за пределами картины), они отпускают малыша, который впервые отважился на самостоятельный шаг. Малыш протягивает вперёд руки, хватаясь за пустоту. Фабиан купил картину за шестьсот песо торговца на улице. Всего‑то за шедевр!
Однако не всегда же двигаться мне в ритме танго.
Итак, я перехожу к неторопливой прозе пешехода. Я вышел из гостиницы «Пасифико» в районе Старого Палермо с намерением исследовать окрестности. На мне сланцы, заношенные шорты и старенькая футболка. В этом же наряде я много лет мотался на городской пляж.
— Какова цель вашего приезда в Аргентину?
О чорт, запамятовал! Я должен отомстить. Где же этот персонаж, который жаждет моей мести? Его нет, его еще предстоит найти в этом городе. Я должен превратиться в настоящую ищейку, и отдаю команду:
— Флобер, фас!
Мой инфернальный пёс навострил уши, встал в стойку. Кончик хвоста напрягся. Ить! Я втягиваю ноздрями утренний воздух. Сухой воздух освежает ноздри, заполняет лёгкие. У каждой страны свой характерный запах. В районе Палермо город пахнет пылью, бензиновой гарью и — принюхиваюсь: говнецом — тонким — тонким запашком из зоопарка. Природный запах, запах жизни. Я жмурюсь на солнце. Мур — мур! Кошка царапает сердце коготком…
…На обратном пути в гостиницу захожу в minimarcado. Покупаю банку пива «Quilmes» — расплачиваюсь долларами. Девушка — muy bonita — вертит стодолларовой купюрой на свету, потом кладёт в кассу и отсчитывает сдачу аргентинскими деньгами. Пиво тёплое, пенистое, отвратное. Останавливаюсь у киоска, рассматриваю местную периодику и журналы. У прилавка торговца — букиниста полистал книжку. На пятой странице было стихотворение: Mi alma esta fresca, como un pedazo de pan. Pero tambien el pan se secara si no se lo das a otro y las migajas a los pajaros.
Я продолжаю исследование. Это занятие немного отвлекает меня от мыслей о мести. Я предвкушал её в течение последних трех месяцев. Месть пожирает меня, точит, как червь, мою личность, я превращаюсь в чудовище, отвратительное, мерзкое самому себе; но никогда не испытывал такого чувства обновления, как сейчас.
Месть — это мой новый опыт падения. Я жаждал не только мести, но и смерти себе. Смерть питается мной. Месть стала моим господином с тех пор, как мы расстались. Это был не разрыв, а предательство. Вы были когда‑нибудь в отчаянии? Если нет, то представьте, что вашу любимую собаку сбивает машиной; или вы уронили в колодец своего ребёнка, который бросился туда, спасая цыплёнка… Броситесь ли вы вниз за вашими любимцами? Гораций не одобрил бы мой поступок — не такой он человек, чтобы ломиться в двери возлюбленного, постоял бы у порога, постоял, а чуть холод да темень, поплёлся бы восвояси и утешился бы мыслью о другой пассии. А наш Пушкин‑то? Пушкин бы кинулся сломя голову на край света?
Месть моя изысканна и бесхитростна: она заключается в том, чтобы заставить заново влюбить в себя, извести ревностью, поставить на колени, заставить страдать и отвергнуть! Я утешу себя, тешу свое отчаяние.
…Голод. Надо бы где‑нибудь перекусить. В кафетерии заказываю омлет, просто наугад ткнув пальцем в меню. Шесть песо долой из кармана. Одолевает усталость, веки отяжелели.
В гостинице валюсь на широкую постель и засыпаю. Снится, что я проглотил гороховое, морщинистое зёрнышко. Оно прорастает во мне, стебли выползают через рот. Вспоминаю, что бредил этим видением в детстве, когда был болен простудой. Сквозь сон слышу, как раздаётся стук в дверь. Этот стук кажется потусторонним. Входят персонажи моего романа, который ещё только в зародыше, который едва пульсирует в моём мозгу смутными образами. Снова стучатся, настойчиво. Следом входит женщина, запыхалась. На туфлях порванный ремешок, поблескивает пряжка.
— Ola, que tal! — она смеётся и обнимает. — Все, что пригрезилось тебе в твоём романе, есть не что иное, как образы тебя самого, твои маски. Из них — я самая любимая, по правде сказать…