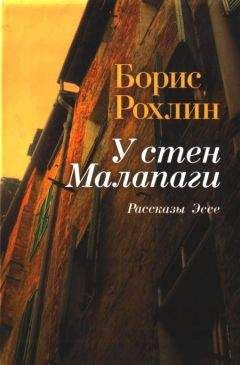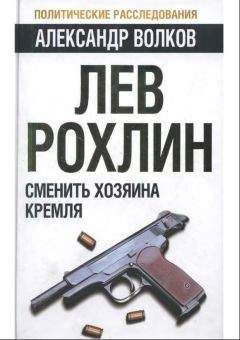Творец или творение? Что кто предпочитает. Движение, — часто, почти всегда, сомнительное, — то есть автора, или покой, завершённость, исполненность, то есть текст.
«Персонажи неизменно выше своего творца», — утверждал С. Довлатов.
Но в данном случае любой выбор приводит нас к автору. В написанном им отразился он сам. И это понятно. Было что отражать. В конце концов единственное зеркало художника — сам художник. Он смотрится в себя. То, что он там видит, и есть текст. Становясь книгой, он оказывается доступным читателю, который получает возможность заглянуть в то же самое зеркало.
Но увидит он там только самого себя.
Всё, что написано С. Довлатовым, «сказано верно и живо» (Гоголь. Письмо Погодину, 10 мая 1836). То есть отчасти так и есть: живо, но «неверно». Он не отражал и не описывал жизнь, как это кажется на первый взгляд. Он её созидал. Что и есть искусство.
В его прозе нет «положительного» персонажа, не говоря уж об «образце» или «эталоне». Нет и «табели о рангах». Почти любой его персонаж — мусор, сор, от которого хотелось бы быть подальше. Хотелось бы, но что-то удерживает.
Скорее всего то, что автор и герой пронизаны друг другом. Что автор не судит и не осуждает, даже «не описывает» своих героев, а живёт в них и с ними. Если что и одухотворяет их, так это его приязнь, его терпимость, его снисходительность к ним, в конечном счёте таким же, как он, как мы все.
«Я — автор, вы — мои герои. И живых я не любил бы вас так сильно».
Но отнюдь не слово «любовь» является сквозным в его прозе. Ближе слово «надежда». Да, оно присутствует, но отдалённо, где-то на окраине сознания, и звучит смутно и глухо. Гораздо чаще встречается слово «безумие». Тональность его разнообразна: от почти трагической серьёзности до добродушно-иронического «с поправкой на лёгкое безумие».
В «Заповеднике» герой размышляет:
«…мир охвачен безумием. Безумие становится нормой. Норма вызывает ощущение чуда».
А в «Марше одиноких» автор приходит к почти классически неутешительному выводу: «…мир неустойчив. Люди злы. И нет конца человеческому безумию».
В общем этот безумный, безумный, безумный мир.
Хочется сказать, довлатовская проза — проза без утешения и надежды. Но когда хорошо знаешь болезнь, с ней легче бороться. И С. Довлатов находит противоядие. Это — смех. Смех не циничный и разрушительный, а принимающий, вбирающий в себя убожество и дискомфортность мира. И именно поэтому «мусор» становится ценностью. Это — «вина» или заслуга автора.
По отношению к рассказчику он выполняет ещё и оборонительную функцию.
Не говоря уже о том, что:
Милей писать не с плачем, а со смехом, — ведь человеку свойственно смеяться.
В более широком смысле смех, юмор — его способ понимания, освоения и приятия реальности, печальной, подчас жестокой и всегда неутешительной. Это и способ преодоления неустойчивости мира. Способ преодоления одиночества.
Об одиночестве С. Довлатов сказал кратко и точно: «…мы были одиноки даже в нашу лучшую пору. Одиноки мы и сейчас. Только каждый в отдельности».
Кажется, чувство юмора не самое мажорное из чувств. Возможно, оно самое горькое и самое драматическое для того, кто им обладает. Довольно часто художники, заставляющие читателя или зрителя умирать от смеха, отнюдь не весельчаки.
«…литературная деятельность — это скорее всего попытки… изжить или ослабить трагизм существования», — сказал он в одном интервью.
Ему удавалось и это, удавалось, можно сказать, в самых «неподходящих» ситуациях: «Что я, похороны не знаю?! Зашёл, поздравил и ушёл!»
Пользуясь словами Валери, он, несомненно, «не строит своего могущества на смятении наших чувств… вынуждает нас соглашаться, а не подчиняться».
Да и, действительно, чего уж там… зашёл, поздравил и ушёл.
Сергею Довлатову как писателю и человеку совершенно чужды озарения, прозрения, интуиции или то, что за них выдаётся, и прочие эмоции нутряного энтузиазма. Он относится к этому не только скептически, но и с некоторой брезгливостью. К любым возвышенным спекуляциям испытывает недоверие, всегда улавливая скрытую в них ложь.
В «Записных книжках» читаем: «Все интересуются, что там будет после смерти? После смерти начинается — история».
Или в «Компромиссе» не менее афористично:
«Быковер всю дорогу молчал. А когда подъехали, философски заметил:
— Жил, жил человек и умер.
— А чего бы ты хотел? — говорю».
При жизни — истории. После смерти — история.
Хотеть, ждать, желать нечего.
«Да, жизнь проста, но чересчур.
И даже убедительна, но слишком».
И, однако, одно озарение писателя посетило:
«Я даже не спросил — где мы встретимся? Это не имело значения. Может быть, в раю. Потому что рай — это и есть место встречи. И больше ничего. Камера общего типа, где можно встретить близкого человека».
Хотел бы повторить: «…рай — это и есть место встречи. Камера общего типа, где можно встретить близкого человека».
Не часто найдёшь в современной литературе такие пронзительные строчки.
С. Довлатов был прав, когда писал: «Мы были другими. Мы были застенчивее и печальнее».
Для Довлатова-писателя характерна удивительная экономия. Экономия слова, экономия чувств. Столь трудно достижимая и столь редко достигаемая простота. Он и сам считал, что «сложное в литературе доступнее простого».
«Писать — это значит настолько крепко и настолько точно, насколько это в наших силах, создавать такой механизм языка, при помощи которого разряд возбуждённой мысли в состоянии одолевать реальные сопротивления… И именно в этом исключительном смысле человек в целом становится автором» (Поль Валери, «Заметка и отступление»).
Именно в этом исключительном смысле человек по имени Сергей Довлатов и стал писателем Сергеем Довлатовым.
Первое отступление
Мой приятель, наливая, любил повторять:
«Но, если эта жизнь — необходимость бреда…»
А выпив, говорил:
«Ну, теперь — необходимость бутерброда».
Герман Гессе считал, что между мудростью Востока и Запада раскачивается жизнь. Мне кажется, она, скорее, раскачивается между «необходимостью бреда» и «необходимостью бутерброда».
Между этими полюсами раскачивается и проза Сергея Довлатова.
Второе отступление
Однажды Сергей, собираясь на семинар к И. М. Меггеру, спросил меня:
«Ты идёшь?»
«Да нет, не пойду».
«А зря, Меттер о тебе спрашивал. Почему, говорит, Рохлин не ходит. Он всегда несёт такую жеребятину! А без него скучно».
Триумф яйца
(О прозе Фридриха Горенштейна)
«Курские помещики хорошо пишут».
Верю Поприщину и думаю, что курские помещики действительно хорошо пишут.
Писатели же пишут по-разному: одни — прозой, другие — прозу.
«— А когда мы разговариваем, это что же такое будет?
— Проза, — отвечает учитель.
— Что? Когда я говорю: „Николь, принеси мне туфли и ночной колпак“, это проза?
— Да, сударь». (Мольер, «Мещанин во дворянстве»).
Журден не подозревал, что говорит прозой. Есть авторы, которые не подозревают, что ею пишут. Главное для них не как, а что. Таким автором был один из самых талантливых и многообещающих писателей шестидесятых Фридрих Горенштейн. Он очень, прежде всего и только ценил мысль, идею, им высказываемую. Писать прозой или писать прозу вовсе не означает, что первое плохо, а второе прекрасно. Кому-то предпочтительнее «Хитроумный идальго Дон Кихот Ламанчский», написанный прозой на уровне «Николь, принеси мне туфли и ночной колпак», другим — «Госпожа Бовари» — роман, в котором каждое слово — проза.
Автор всегда серьёзно относится к тому, что пишет, но Горенштейн был тяжеловесом серьёзности, а это часто снижает уровень и результат сделанного.
Необходима некоторая степень отстранения. Отступление хотя бы на несколько шагов. Взгляд со стороны, и не без иронии.
Фридриху Горенштейну это было совершенно чуждо. Он знал истину и возвещал её. К тому же темы были слишком высоки, в «ранге» высокой трагедии, времена описываемые слишком черны и беспросветны. Ф. Горенштейн не писал, а возводил и, конечно, соборы. Имею в виду «Место» и «Псалом». Не два романа, а два «Столпа и Утверждения истины». Возвышенно, но сомнительно.
Когда-то Ильич высказался в том духе, что, мол, писатель пописывает, а читатель почитывает. Так вот впредь так не должно быть. Но только так и должно и может быть. На большее художнику не стоит претендовать.
Фридрих Горенштейн решил иначе, обменяв скромный статус сочинителя, «ремесленника скоморошьего цеха», на миссию идеолога, мыслителя и борца. Тяга к титанизму? Хотя герой «Места» скорее неудавшийся «мелкий буржуа» советского образца, чем «титанический» авантюрист Возрождения.