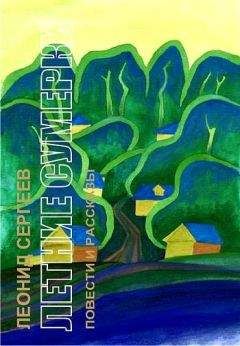— Все мы связаны с другими людьми, хотим этого или нет.
До переезда на окраину, Петрович жил в центре города и возглавлял — ни много ни мало — производственную мастерскую в НИИ. Жадный до работы, он сам трудился неистово и от подчиненных требовал полной отдачи.
— Не люблю спокойных, — говорил. — Спокойный не может взорваться, работать на запредельном усилии. Серьезная работа требует сверхнапряжения, а его можно почерпнуть только в наэлектризованных мозгах, в горячем сердце. С холодным сердцем ничего дельного не создашь.
Эти слова звучали как лозунг — их Петрович высказал в минуту эмоционального настроя, а кое-кто думал — так говорили Ленин со Сталиным. Между тем Петрович иногда и не такое изрекал — он был мыслящий, масштабный, дальновидный и подобные сентенции выдавал не для того, чтобы оглушить эрудицией, а исключительно ради истины.
К подчиненным в мастерской Петрович подходил со своими мерками, был убежден — каждый может делать как он, просто не хочет.
— Не понимает, что здесь одного желания мало, — вздыхали некоторые, плохо освоившие ремесло или имеющие слабые умственные способности.
Другие, из числа лентяев, считали, что мастер своими завышенными требованиями и беспокойным характером вносит в коллектив суматоху, нервозность. Не раз на него писались жалобы, и директор НИИ — тоже сильная личность — просил Петровича быть терпимей и мягче, а работникам мастерской говорил:
— Ваш шеф жесток, но справедлив, и в работе практически не допускает ошибок. А то, что он резковат, ну и пусть. Когда он повышает голос, я отшучиваюсь, и вам советую.
Но недруги Петровича множились, наседали на директора — ходили к нему косяком — тот только разводил руками. А Петрович все поддавал жара — точно гонщик, который с опытом приобрел уверенность и смелее идет на риск, становился все более непримиримым, и в какой-то момент потерял чувство опасности — не сработал его инстинкт самосохранения, а может он и не имел его.
На общем собрании Петровича подвергли жестокой критике, обвинили чуть ли не в сатанинских методах. Он держал оборону в одиночку, отчаянно защищался, потом вдруг взял и написал заявление об уходе… И устроился мастером на завод, и на новом месте всех тормошил, подстегивал, никому не давал спокойной жизни.
Поменяв работу, непоседа Петрович поменял и местожительство, совершил витиеватый поворот — переехал на окраину и особенно ярко проявил себя на пустыре.
— Каждый должен заниматься спортом, — сказал он подросткам. — Особенно мужчина, чтобы при случае постоять за себя.
Они приходили на пустырь по вечерам и лопатами сравнивали бугры вокруг заболоченного места. В разгар работы Петрович подогнал самосвал с песком и несколько дней юные строители таскали песок на носилках, утрамбовывали его, размечали и цементировали квадраты…
Уже через две недели часть низины превратилась в отличную площадку с лавкой для зрителей. И начались баталии, да такие, что случалось, к играющим подключались огородники и гаражники, и уже никто не делил окраинное население на «своих» и «чужаков»; только доминошники продолжали стучать костяшками — считали свою игру более «интеллектуальной», но издали все же наблюдали за игрой.
Соорудив первую игровую площадку, Петрович принялся за вторую.
— Пора возродить и другие русские спортивные игры, — сказал и начал завозить грунт под площадку для игры в «чижа» и лапту.
Второе обустроенное место для «малого спорта», как называл народные спортивные игры Петрович, сделали быстрее — уже набили руку на земляных работах. С появлением этой «спортивной зоны» многие решили, что теперь Петрович успокоится, но не тут-то было — он вдруг вздумал устроить волейбольную площадку — к этому времени помощников у него прибавилось. Пустырь, точно гигантская мембрана, как бы передавал колебания от кипучей работы любителей спорта — эти колебания все настойчивей проникали в окраинные квартиры, будоражили жителей. Ребята приводили с собой приятелей, старших братьев, отцов. Увлеченностью, настроем на полезное дело Петрович заражал все большее количество людей, его деятельность оздоравливала атмосферу окраины; до него процветало пьянство, рабочие изъяснялись только посредством мата — теперь многим стало не до пьянок, а ругаться при интеллигентном Петровиче и вовсе выглядело дикостью; некоторые при нем даже стеснялись говорить неправду; до него подростки бесцельно слонялись по дворам, покуривали, хулиганили — теперь сразу после школы спешили на пустырь, а дома только и говорили о своем кумире и его планах насчет волейбола.
На самом деле планы Петровича, человека революционной закалки, простирались гораздо дальше — различные спортивные сооружения и футбольное поле, а конечная цель — нешуточный размах — настоящий стадион с трибунами — и это был не какой-то авантюрный романтизм, не нахальные планы, а пытливый энтузиазм, основанный на точном расчете. В отличие от разных крикунов с дикими взглядами (из числа райкомовских деятелей), которые призывали тратить время на какие-то отдаленные искания, приземленный, независимый, свободомыслящий Петрович имел четкие, конкретные ориентиры. За одни только планы Петровичу следовало бы поставить памятник, и уж, конечно, было бы справедливо, если бы людям платили деньги не только за работу, но и за идеи — как в Японии. От этих самых идей у Петровича трещала его волшебная голова, они не давали ему покоя, он спешил воплотить их в жизнь — потому и на пустырной стройке работал как одержимый, без передыха; с каплями пота на переносице носился от одной группы строителей к другой, всех подбадривал, хватался за самые тяжелые бревна, возил самые нагруженные тачки, и никто не знал, как по ночам он страдал одышкой, глотал таблетки, как его «пилила» жена.
Под волейбольную площадку пришлось завозить три самосвала песка, и утрамбовывали его с неделю, потом сыпали толченый кирпич, обтесывали и вкапывали столбы; и никто не догадывался, что и песок, и столбы, а позднее — весь спортивный инвентарь Петрович купил на собственные деньги; на вопросы «где достал?» — отмахивался:
— Договорился на работе, списали как брак… Нашел дома случайно.
Кое-кто (из среды доминошников) усмехался:
— Взял, где плохо лежало.
Но таких было ничтожное меньшинство, единицы и, как правило, — сами нечистые на руку, большинство считало Петровича в высшей степени порядочным, кристально честным и, что особенно важно, бескорыстным стариком. Собственно, слова «старик», «папаша» ему совершенно не подходили — мальчишеский задор делал его молодым.
К концу лета началось центральное действие — любители спорта, возглавляемые неутомимым Петровичем, принялись за футбольное поле: выравнивали колдобины и рытвины, таскали на носилках и возили на тачках дерн с косогора. Теперь Петровичу помогала вся окраина — приходили целыми семьями. Случалось, на пустыре работало около сотни человек, а по воскресеньям — и в два раза больше — это был массовый воспламенительный порыв.
Как только поставили ворота, Петрович организовал футбольные команды; сам не играл, но вдохновенно руководил тренировками — выжимал максимум из каждого момента — и еще более вдохновенно, даже азартно судил матчи. Что удивляло в Петровиче-тренере, так это требовательность; он никому не позволял расслабляться, не давал поблажек ни подросткам, ни взрослым, не делал скидок на усталость после рабочего дня и давал задание серьезно, без своих обычных шуточек. Свой жесткий метод объяснял предельно просто:
— Не темпераментный тренер, который всегда улыбается, не воспитает настоящего спортсмена. Я строю тренерскую работу на требовательности и доверии. Не доверять тоже плохо, если не доверяешь, рано или поздно потеряешь и спортсмена, и человека.
А в Петровиче-судье поражала осведомленность в тонкостях игры, зоркая наблюдательность, отличный глазомер — он видел все поле, даже игроков, не владеющих мячом.
Поединки на пустыре были захватывающим зрелищем — по накалу борьбы не хуже, чем у мастеров, а кое в чем даже лучше — без симуляции и разных артистических трюков, которые демонстрируют мастера, когда их сбивают, и они, работая на публику, корчатся от боли и катаются по земле, а выклянчив штрафной, вскакивают и бегут как лоси; без поцелуев и объятий, которыми награждают мастера за каждый забитый гол. Игра была мужественной и благородной, проникнутой уважением к противнику и зрителям, а их собиралась целая толпа, сплошной стеной они стояли вокруг поля; еще больше болельщиков наблю-дало за игрой из окон близлежащих домов. Даже доминошники — самые заядлые из игроков, фанатично преданные своим костяшкам, и те подходили к кромке поля. И зрители «болели» не как на центральных стадионах — без всяких улюлюканий и свиста и дурацких выкриков — «болели» сдержанно, по справедливости аплодируя каждой команде за удачную комбинацию, каждому игроку за индивидуальное мастерство.