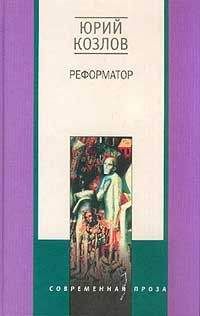Они улыбались, когда досужие журналисты спрашивали их про чудовищные аварии и катастрофы на земле, в небесах и на море, про немотивированные отключения посреди зимы света и тепла в северных областях, про падение курса рубля, банкротство Сберегательного банка, Пенсионного фонда, из-за чего практически все население страны в очередной раз погружалось (как подводная лодка без надежды на всплытие) в нищету, как будто знали что-то такое, чего народ по глупости своей знать не мог.
Вот только делиться этим своим знанием с народом они не хотели, как не хотели в свое время делиться им древние жрецы.
Новые законы, таким образом, утверждались сами, явочным порядком.
Ученый, не говоря об учителе, враче, офицере получал в ту пору меньше дворника или грузчика. В плане зарплат в России был установлен самый настоящий пролетарский социализм, а также интернационализм. В то же время некие неизвестно откуда появившиеся люди с испуганно-наглыми лицами и бегающими глазами владели достоянием страны — ее фабриками, заводами, научными лабораториями, трубопроводами и недрами и, соответственно, получали (если это слово здесь уместно) в миллионы раз больше дворников или грузчиков. А это был даже не дикий капитализм, (таинственные люди не заботились о развитии производства на захваченной собственности, конкурентов же попросту убивали), а пост-капитализм и социализм одновременно — посткапсоц, как назвал его в одной из своих статей Никита.
Новому общественно-экономическому строю трудно было подобрать логическое определение, потому что он как раз уничтожал общество и экономику, то есть саму логику человеческого существования, возвращал людей к пещерному до- общественному и до- экономическому (несмотря на Интернет и ИНН) бытию.
Президент, Дума, правительство, государство, вертикаль власти, долги, коррупция, регионы, Бог, приватизация, народ, реформы, глобализм, доллар, криминал, армия, СМИ, утечка капиталов, сокращение населения, СПИД, гимн, наркомания, естественные монополии, культура и так далее — вокруг этих, приобретающих ложно-судьбоносное (в смысле, что никто не собирался кардинальным образом что-то менять) значение понятий, крутилась так называемая общественно-политическая мысль. Об этом говорили по ТВ и писали в газетах. Подобно невидимой арматуре, пустая — обезволенная — тревога пронизывала разговоры людей дома, на работе, в общественном транспорте, в ресторанах, в прочих местах, где бывали в ту пору люди.
Такой говорливости в России не наблюдалось со времени Горбачева, который тогда еще был жив и тоже говорил без конца, но уже не так бесконечно и бессмысленно как прежде, потому что (в отличие от прошлого) теперь говорил не просто так, а за гонорары. К перечисленным понятиям он, как дополнительные вагоны к идущему в никуда поезду, прицеплял три новых, точнее старых: «социал-демократия», «общечеловеческие ценности», «свобода печати». Но даже за (немалые, надо думать) гонорары он не мог говорить так, чтобы всем было понятно. Что-то он, конечно, хотел сказать, но только что?
Тогдашний (третий по счету) президент, общаясь с народом, тоже прыгал по навязшим в зубах, ничего не выражающим понятиям, как по болотным кочкам. Улыбаясь, как Мона-Лиза Джоконда, он говорил (в отличие от Горбачева и своего предшественника, которому лучше вообще было не говорить) коротко, правильно (применительно к моменту), но бесцветно, а главное бестрепетно, как автоответчик.
А когда человек говорит как автоответчик и улыбается как Джоконда?
Когда не верит в то, что говорит, но знает, почему улыбается.
«Ты уже не застал, — сказал Никите Савва, — но примерно так говорили люди в советские времена на семинарах по марксизму-ленинизму».
Личность тогдашнего президента некоторое время существовала отдельно от произносимых им слов, что свидетельствовало либо о ничтожности, либо о внемасштабном величии его личности, в том смысле, что ему было плевать, что думают о нем окружающие.
Про ничтожную личность говорить нечего, размышлял над этим Никита. Не имеет никакого значения, верит она в то, что произносит или не верит. Великая личность — да, может вводить людей в заблуждение, но не может делать это постоянно, как если бы в запасе у нее вечность. Большие дела, как правило, свершаются в крайне сжатые сроки, а потому даже один потерянный день для великой личности — невосполнимая утрата. Потом, если такой человек и вынужден в силу неких причин говорить не то, что думает, он, как правило, облагораживает, очищает произносимые слова магическим кристаллом своего в них неверия, чтобы те, кто судит человека не по словам, а по делам, поняли бы что к чему.
Впрочем, все это было слишком сложно для такого простого народа, как русский. Поэтому одна часть народа (без особых на то оснований) полагала, что президент велик, другая (с куда большими основаниями) — что ничтожен, третьей же (самой многочисленной) части не было никакого дела ни до президента, ни до России, ни до самих себя.
Страна качалась, как на весах в ожидании момента истины.
…Никита в те незабываемые мутные, как немытый в каплях стакан поутру и метельные к вечеру, как если бы в этот стакан сыпали творог, апрельские дни две тысячи какого-то года сочинил очередную статью для газеты «Провидец» под названием «Вор исторического времени».
Он высказал мысль, что замещение реальности бесконечно растянутым во времени ожиданием (чего?), в сущности и есть программа президента, над разгадкой которой бьются аналитики, политологи, социологи и прочая жирующая на историческом безвременье сволочь.
Статья была напечатана, и сразу как будто провалилась в никуда, исчезла в пыльном мешке невостребованных идей, растворилась в улыбке Джоконды. Никто на нее не ссылался, никто ее не цитировал, никто вообще ее не заметил, как будто не было никакой статьи.
Савва объяснял такие вещи, ссылаясь на разработанную им «теорию опережающего забвения».
Кто-то только готовится что-то предпринять, совершить, обнародовать, а уже как будто есть некое решение свыше, что никто не обратит на это внимания, не отреагирует, не заметит. Жизнь устроена таким образом, утверждал Савва, что замечается, отмечается, превозносится, навязывается все максимально в данный момент человечеству ненужное, тогда как замалчивается, пропускается мимо глаз и ушей, объявляется изначально несостоятельным все максимально нужное, такое, что (теоретически) могло бы изменить жизнь человечества к лучшему. Зачастую, говорил Савва, а точнее, почти всегда, весь век человека, провозглашающего это самое максимально нужное, проходит в полосе «опережающего забвения». Он как будто живет на другой стороне Луны.
«То есть забвение бежит впереди человека?» — уточнил Никита. Забвение увиделось ему в образе невидимки, простирающего свою невидимость на поспешающего за ним человека. Кто-то, конечно, человека видит — родственники, близкие, сослуживцы, но все остальные в упор не видят. Человечество не видит, мир не видит. А еще Никита подумал, что если смерть всегда ходит по левую сторону от человека, а слава — по правую, то опережающее забвение, как похабствующее привидение, пугает трепетную деву-славу, и она (дева-слава), зажмурясь, стремится прочь от достойного человека, не разбирая дороги, влетая в объятия (если бы только в объятия!) недостойных. А вот смерть совершенно не пугается опережающего забвения.
«Бежит? — удивился Савва. — Да нет, это человек пытается убежать, но не может, потому что оно накрывает его поверх тени, поверх всех его важных мыслей о благе человечества и величии Господа, одним словом, поверх всех сущностей».
«И шансов вырваться нет?» — с тоской спросил Никита, который сразу понял, что это про него.
«Ни малейших, — ответил Савва, — если ты пытаешься озвучить нечто противоречащее общепринятому, точнее утвержденному в качестве такового».
«Но почему?» — воскликнул Никита, живо вообразивший себе проклятую полосу (обратную сторону Луны). Она тонула в тумане. Внутри тумана бродили неприкаянные люди с фонариками. Хаотично пляшущие лучики не рассеивали туман, а, напротив, делали его еще более непроницаемым. Свет каждого, таким образом, был замкнут в себе. Вместо того чтобы светить, он боролся… с чем? Никите даже показалось, что он, подобно Данте, видит один из сегментов ада, но ада, так сказать, прижизненного, куда помещаются люди, говорящие дело, но не то, какое хотели слышать другие люди, решавшие за всех, какое дело говорить можно, а какое нет.
Наверное, это те самые древние жрецы, подумал Никита, и это их основной — вечно новый, точнее обновляющийся — закон.
Заключенные в полосу опережающего забвения, отчуждения люди возмещали непризнание своих (когда подлинных, когда мнимых, но в любом случае невидимых миру трудов) разного рода экстравагантными выходками, нелепой общественной деятельностью, алкоголем и т. д.