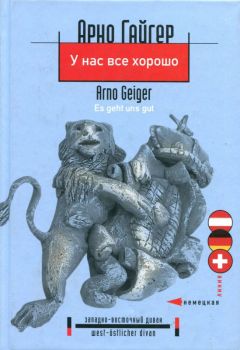Незадолго до Рождества он потребовал от Йоханны объяснений. И получил:
— Мне кажется, ты частенько путаешь две вещи: когда не приемлешь ты сам и когда не приемлют тебя.
— Вот как?
— Тонко подмечено, а? Наверняка ты еще не думал об этом в таком ракурсе.
На этот раз лучше уж промолчать, чем отреагировать на такую удручающую оценку. Лучше уж. Лучше он заявит ей: Йоханна, пока не забыл, сообщаю, что решил поехать на Украину с Атамановым и Штайнвальдом.
— Через два дня отправляемся.
Йоханна кажется озадаченной.
— Ах вот как, — произносит она. И потом добавляет: — Черт побери, таким я тебя совсем не знаю, таким решительным.
Пауза. Очень напряженная. Филипп говорит:
— У кого нет друзей, тот сам себе враг.
Пауза, вновь напряженная (сдержанная, удивленная, отчаявшаяся, обдумывающая).
— Ты уже купил свадебный подарок, и если да, то какой?
Молчание. Можно вместе считать секунды. Филиппу вдруг приходит в голову, что в новых телефонах не слышно шума в проводах.
Йоханна смеется (развеселившись?):
— Так я и знала! Посылаю тебе рабочих, которые подставляют свою спину и берут на себя твои трудности на семейном фронте, а ты растрачиваешь освободившуюся энергию на то, что бегаешь хвостиком за этими унылыми типами. Что тут можно сказать? Удачи тебе. Надеюсь, что от этих двоих ты заразишься тягой к разгребанию дерьма.
После того как Филипп не реагирует и на этот жестокий анализ (его сумасбродства — его трагичности — его социальной неустроенности?), потому что прощание, через которое предстоит пройти, напрягает его уже заранее, Йоханна завершает разговор призывом при случае повзрослеть, чтобы потом не удивляться, что с ним стало.
Так, без этого тоже никак нельзя было обойтись.
— Чао.
— Ба-ба.
Возможно, думает Филипп, это превосходный признак взросления, когда систематически теряешь надежду на то, что все еще может в любой момент повернуться к лучшему. Он находится на самом верном пути. Тут даже начинает вдруг угасать и надежда на то, что на вечеринку в честь новой крыши соберутся гости. Он говорит себе, что Йоханна должна была бы громко хлопать в ладоши, если бы видела, как безрадостно плетется он к стене сада.
Во время последнего визита Йоханны, с неделю назад, когда ранним утром красный «мерседес» выехал за ворота, они вместе принимали ванну. Йоханна — на женской половине, как она называет более удобную, покатую, часть ванны, а Филипп поясницей на ребристой вращающейся ручке для регулирования слива воды. Они говорили о работе Йоханны на телевидении и о бабушке Филиппа, которая в преклонных летах решила освежить свои знания английского языка. За это время Филипп дважды вымыл волосы Йоханны шампунем с липовым цветом, про который она говорила, что он хорошо пахнет. Она хотела, чтобы и Филипп подтвердил, что пахнет хорошо. Она сидела перед ним, между его ног. Он смывал пену с ее волос и поднимал их, чтобы струя душа достала и до затылка. Вода стекала в сливное отверстие с клокотанием, потому что Йоханна, быстро сдвигая и раздвигая ноги, делала волны. Филипп сказал, что это бурление звучит так, словно под ванной живут привидения. Йоханна смеялась. Филипп тоже смеялся. Когда он вылез из ванны, чтобы освободить место, клокотание стихло, хотя Йоханна продолжала сдвигать и раздвигать ноги. От шампуня, стекавшего в воду в течение последнего получаса, Филипп стал совсем липким, и поскольку полотенца вчера были отправлены в грязное белье, он проскользил по полу на резиновом коврике в комнату бабушки, где лежали чистые полотенца. Когда он вернулся оттуда, Йоханна стояла, выпрямившись во весь рост, в ванне, невероятно большая и широкая и такая далекая, сияя от счастья, которого он никак не мог понять. Обеими руками она выкручивала волосы.
Филипп стоит у стены сада на последнем из стульев и прислушивается, затаив дыхание.
Однако отсутствие соседей грозит ему скандалом.
Он идет к фрау Пувайн и преподносит ей вишни. Господин Прикопа также сердечно приглашен. Он трижды звонит на почту, пытаясь разыскать почтальоншу. Но ему упорно отказывают и не называют фамилию сотрудницы.
Тогда он звонит своему коллеге. Там не берут трубку.
Он набирает номер отца. Тот дома.
— Эрлах.
— Привет, пап, это я, Филипп.
— Какой сюрприз. Удивил так удивил.
— Как у тебя дела?
— Не жалуюсь. А у тебя?
— Тут сейчас кровельщики. Чинят крышу.
— Значит, ты весь в делах?
— Можно и так сказать. А ты?
— Только что сложил в папку лицензии, которые они вернули мне сегодня по почте. Под конец года игру снимут с производства.
— Знаешь ли ты Австрию?
— Да. И это после сорока одного года. Плюс те годы, когда я сам был полновластным хозяином игры.
— И это когда я даже ночью думал, знаю ли я Австрию.
— Да, жаль.
— Пап, сегодня вечером я устраиваю небольшую вечеринку с грилем. Не хочешь прийти? Тогда и поговорим об этом.
— А я там кого-нибудь знаю? Кроме тебя?
— Фрау Пувайн?
— Понятия не имею, кто это.
— Господина Прикопу?
— Того, с телевидения? Смех — дело серьезное?
— А разве он не умер?
— Другого Прикопу я не знаю.
Молчание в трубке.
— Думаю, мне лучше остаться дома. И все же спасибо тебе, что вспомнил про меня. Ты на меня не обидишься?
— На что ж тут обижаться?
— Ну вот и прекрасно.
— Тебе грустно, что игру больше не будут выпускать?
— Немного. Но не так, чтобы очень.
Молчание в трубке.
— А ты помнишь, как в самом первом выпуске игры гласило последнее правило: проигравший не должен смеяться. В то время мне, двадцатилетнему, это казалось очень оригинальным. Как будто в Австрии кто смеется, когда проигрывает. Да мы почти всегда были в проигрыше. А сегодня, когда я включаю телевизор и вижу эти развлекательные шоу с молодыми людьми, добровольно позволившими запереть себя в четырех стенах, получается все как раз наоборот. Кто проигрывает и вылетает из игры, тот выходит перед камерой и говорит: огромное спасибо, было очень здорово, я горжусь тем, что сумел остаться самим собой. Это мне непонятно. Когда проигрывал я, то после этого я всегда становился другим. Я не любил проигрывать. Проигрыши никогда не шли мне на пользу.
Молчание в трубке.
— Только идиоты никогда не проигрывают, — говорит Филипп.
— Игру можно было бы еще раз модернизировать. С другой стороны, что уж теперь говорить, что прошло, то прошло. Я тебе никогда не рассказывал, что ДКТ[90] до войны называлась «Спекуляция» и что нацисты хотели ее запретить, потому что они были против денег? Тогда игру в мгновение ока переименовали в Коммерческий талант, что придало ей аспект образовательной игры, и она пользуется успехом до сих пор. Немцы без всякого стеснения называют ее «Монополией».
— Знаешь ли ты Австрию? Это ведь тоже звучит как познавательная игра.
— Она таковой и является. Ну, да ладно, я уже сказал: проехали и забыли. Не переживай за меня. Может, и вправду не обязательно знать, как быстрее всего добраться от Куфштайна до Брука-на-Лейте. Если честно, то и мне это уже совсем безразлично: я предпочитаю оставаться дома. О’кей? Пойду снова прилягу. Как мило, что ты позвонил, Филипп.
— Ты тоже звони.
— И не сердись на меня, что я не приду. Да и дождиком в воздухе пахнет.
— Йоханна тоже так говорит.
— Йоханна, та, что была раньше?
— Да, она.
— Видишься с ней изредка?
— Вот именно, что изредка.
— Я не хотел быть назойливым.
— Ничего страшного.
— Ну, будь здоров.
— Ты тоже.
Филипп кладет трубку. Он подходит к двери, куда только что доставили заказанную еду, и бросает одно рыбное филе рядом со ступеньками крыльца. Филе предназначено кошке, которая в последние два дня тоже не удостаивает Филиппа посещением (потому что на чердаке она наелась крысиной отравы и окончила свой жизненный путь в шкафу на верхнем этаже — но Филипп этого еще не знает). Он втыкает факелы в землю, протягивает удлинитель в сад и запускает свадебную музыку. Он даже вытаскивает в сад кухонный стол и застилает его белой скатертью, чтобы все смотрелось прилично. Затем он снова влезает на стулья у стены в надежде пополнить короткий список гостей, готовых принять его приглашение.
Пожилой господин, пару недель назад угрожавший ему проволочной щеткой, собирает малину. Филипп привлекает его внимание, пожелав ему доброго вечера. Мужчина поворачивается к Филиппу, меряет его внимательным взглядом. В первую минуту Филипп сомневается, что тот его узнает. Все-таки при их первой и последней до сих пор встрече на Филиппе был респиратор и защитные очки. После нескончаемо долгой секунды, во время которой Филиппу кажется, что он чувствует запах гриля, а также слабую надежду, которая и сбивает его с толку, — у него нет ни малейшего повода надеяться на то, что сосед также ответит приветствием, тот отвечает, правда, не очень дружелюбным тоном, но и не очень недружелюбным, однако с таким демонстративным выражением терпения, которое дает Филиппу понять, что все всё о нем знают. Лучше бы ему и сейчас иметь на лице респиратор и защитные очки, да еще в придачу завязанный на затылке платок, закрывающий рот и нос. Он смотрит на соседа, обиженный, оскорбленный, испытывая неловкость, и в то же время, хотя внешне он остается спокойным, умоляет о сочувствии, упав мысленно на колени перед соседом-противником, мысли которого так ясно вырисовываются перед глазами Филиппа: вот это, значит, и есть новое поколение, этот маленький шпион и уклонист, он выучился карабкаться по родословному древу семьи, пригнутой ветром к земле, и сейчас использует приобретенные таким образом навыки для того, чтобы взбираться на стулья, расставленные вдоль садовой стены. Филипп начинает говорить. Мужчина вновь принимается за свое размеренное занятие, хотя и прислушивается, что выражается в нечастом поглядывании на собеседника, к тому, что излагает Филипп: он приглашает мужчину на вечеринку, вместе с семьей, вместе с дочерью.