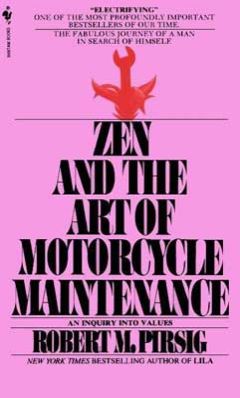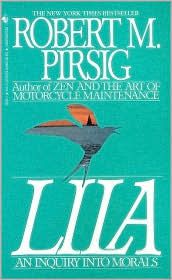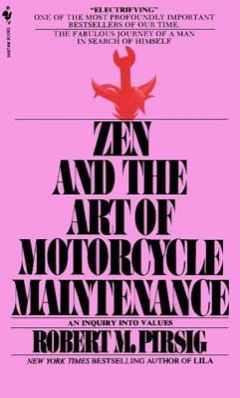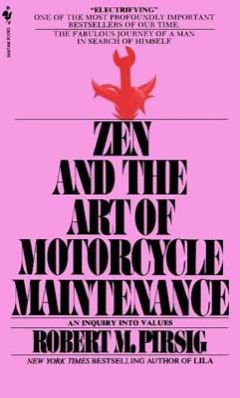Тогда он сел и составил на имя председателя Комиссии по анализу идей и исследованию методов чикагского университета письмо, которое можно охарактеризовать только как провокацию к увольнению, в котором автор отказывается незаметно выскользнуть через заднюю дверь, а устраивает такую сцену, что его противники вынуждены будут с треском вышвырнуть его через парадную, придавая таким образом провокации такой вес, какого у неё раньше не было. Позже он встаёт на улице и, убедившись, что дверь наглухо закрыта, грозит ей кулаком, отряхивается и говорит: “Ну что ж, я хоть попробовал”, очищая тем самым свою совесть.
В провокации Федра сообщалось, что его темой по существу теперь была философия, а не стилистика английского языка. Однако, отмечал он, разделение исследования на существенную и методологическую сферы является проявлением аристотелевой дихотомии формы и существа, которое недуалистам ни к чему, ибо они идентичны.
Он сообщал, что не совсем уверен, но диссертация по Качеству вроде бы оборачивается в антиаристотелевскую диссертацию. Если это так, то он выбрал подходящее место для её представления. Крупные университеты действуют в гегелевских традициях, и любая школа, которая не может принять диссертацию, противоречащую своим основополагающим догмам, оказывается в этой колее. Таким образом, утверждал Федр, именно такой диссертации и ждал чикагский университет.
Он соглашался, что его претензии грандиозны и что он практически не может дать суждение о ценности этой работы, так как никто не может быть беспристрастным к самому себе. Но если бы кто-нибудь другой представил диссертацию, претендующую на крупный прорыв в отношениях восточной и западной философии, между религиозной мистикой и научным позитивизмом, то он посчитал бы её крупным историческим достижением. Такая диссертация выдвинула бы университет далеко вперёд. В любом случае, писал он, никто ещё не был принят чикагским университетом до тех пор, пока не оттёр кого-либо в сторону. Настала очередь Аристотеля.
Просто возмутительно.
И не просто провокация к увольнению. Тут ещё сильнее проглядывает мегаломания, потуги на величие, полная неспособность понять, какое впечатление это произведёт на остальных. Он настолько захвачен своим миром метафизики Качества, что не видит ничего, кроме неё, а так как никто больше не понимает этот мир, то его песенка спета.
Думается, в то время он считал, что сказанное им верно, и неважно, возмутительна или нет форма его представления. Она настолько грандиозна, что у него нет времени приукрасить её. Если чикагский университет интересует эстетика того, о чем он пишет, а не его рациональное содержание, то тогда он не удовлетворяет фундаментальным целям Университета.
Вот в чём дело. Он действительно так считал. Это была не просто ещё одна интересная идея, которую надо проверить существующими рациональными методами. Это видоизменение самих наличных рациональных методов. Обычно, если представляешь новую идею в академической среде, то должен вроде бы быть объективным и беспристрастным. Но сама идея Качества противоречит такой посылке: объективности и беспристрастности. Это маньеризм, уместный только при дуалистическом мышлении. Дуалистическое великолепие достигается объективностью, а творческое великолепие — нет.
У него была вера, что он разрешил одну из величайших загадок вселенной, разрубил гордиев узел дуалистического мышления одним словом, Качество, и он не собирался позволить кому-либо снова завязать это слово в узел. Обладая такой верой, он не замечал, насколько возмутительно звучит мегаломания его слов. Или же, если и замечал, то не обращал внимания. Пусть это звучит, как мегаломания, а что, если это верно? Если неверно, то кому тогда какое дело? А если всё-таки он прав? Быть правым и бросить всё в угоду предрасположенности своих учителей, вот это было бы чудовищно!
Поэтому он просто не обращал внимания на то, как это воспримут другие. Это было совершенно фанатическое дело. В те дни он жил в одинокой вселенной рассуждений. Никто его не понимал. И чем больше люди показывали ему, что не могут понять его, тем фанатичнее и несимпатичнее он становился.
Его провокация на увольнение получила ожидаемый ответ. Поскольку темой его по существу была философия, ему следует и подавать её на факультет философии, а не в комиссию.
Федр должным образом и проделал это, затем он с семьёй загрузил все свои пожитки в машину с прицепом, попрощался с друзьями и был готов к отъезду. В то время, как он запирал дверь дома, появился почтальон с письмом. Оно было из чикагского университета. В нем сообщалось, что его туда не берут. Ничего больше.
Очевидно, председатель Комиссии по анализу идей и изучению методов повлиял на это решение.
Федр раздобыл у соседей почтовой бумаги и конверт и написал председателю, что раз он уже принят в Комиссию по анализу идей и изучению методов, то ему придётся остаться в ней. Это был весьма формальный манёвр, но Федр к тому времени выработал в себе некую боевую хитрость. Такая уловка, то, что его так быстро выставили за дверь философии, вроде бы указывала на то, что председатель в силу каких-то там причин не мог выставить его через парадную дверь комиссии, даже имея на руках такое возмутительное письмо, и это вселяло в Федра некоторую уверенность. Никаких боковых лазеек, пожалуйста. Им придётся либо вышвырнуть его через парадную дверь, либо оставить у себя. А может им это не удастся. Вот и хорошо. Он хотел, чтобы эта диссертация не была обязана никому и ничем.
Мы едем по восточному берегу озера Кламат по трехполосному шоссе, и у нас возникает ощущение, что мы попали в двадцатые годы. Именно тогда строились такие шоссе. На обед мы останавливаемся в придорожном трактире, который также принадлежит той эпохе. Деревянное сооружение, которое давно пора красить, неоновая реклама пива в витрине, гравий и потёки из автомашин на передней площадке.
Внутри, крышка унитаза потрескалась, умывальная раковина вся в жирных пятнах, на обратном пути в свою кабину я ещё раз бросаю взгляд на хозяина, стоящего за стойкой. Лицо двадцатых годов. Безо всяких затей, без особых любезностей и добродушия. Это его замок. Мы его гости. И если нам не нравятся его гамбургеры, то лучше помалкивать.
Когда же их всё-таки подали с огромными луковицами, то они оказались довольно вкусными, а пиво в бутылке было просто отменное. И весь обед обошёлся нам гораздо дешевле, чем пришлось бы заплатить у какой-либо старушки с пластмассовыми цветами на окнах. Пока мы едим, я замечаю по карте, что мы свернули не туда, и что к океану мы добрались бы гораздо быстрей другим путём. Теперь стало жарко, липкая жара западного побережья после жары западной пустыни очень удручает. Действительно, мы как бы попали снова на восток, вся местность так похожа, и мне хочется как можно скорее добраться до океана, где так прохладно.
Об этом я думаю, пока мы объезжаем озеро Кламат по южному берегу. Липкая жара и дух двадцатых годов… Вот такое же чувство было в то лето в Чикаго.
Когда Федр с семьёй прибыл в Чикаго, то поселился неподалеку от университета, и поскольку у него не было стипендии, устроился на полную ставку преподавателем риторики в Иллинойский университет, который тогда находился в центре города рядом с причалом ВМФ, выступавшим далеко в озеро. Там было жарко и душно.
Студенческий состав отличался от того, что был в Монтане. Самые хорошие студенты были собраны в студгородках Шампейн и Урбана, а ему довелось преподавать серой монотонной массе середняков. Когда их работы обсуждались в классе с точки зрения качества, то их трудно было отличить друг от друга. При других обстоятельствах Федр придумал бы что-нибудь, чтобы исправить положение, но теперь он зарабатывал себе этим на хлеб, и у него не оставалось творческой энергии. Его интересы были устремлены на юг, к другому университету.
Он подал документы на приём, сообщил свою фамилию профессору философии, который вёл регистрацию, и заметил, что на него глянули с некоторым удивлением. Тот ответил, да, конечно, председатель просил зачислить его на курс по идеям и методам, где он сам и преподаёт, и выдал ему программу курса. Федр выяснил, что расписание совпадает с его расписанием по основному месту работы, и поэтому выбрал другой курс, “Идеи и методы, 251, Риторика”. Поскольку риторика была его специальностью, здесь он чувствовал себя немного увереннее. А ведущим преподавателем здесь был не председатель. Им был тот профессор философии, который принял у него документы. Профессор, который вначале смотрел на него с прищуром, теперь широко раскрыл глаза.
Федр занялся преподаванием у причала ВМФ и стал готовиться к собственным занятиям в докторантуре. Теперь ему совершенно необходимо было как следует поучиться, ибо раньше ему не приходилось изучать философию Древней Греции в общем и одного грека-классика в частности: Аристотеля.