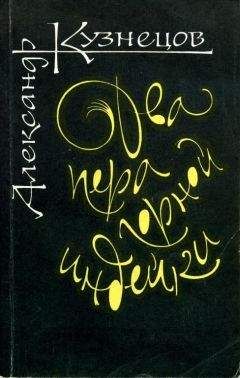Тут и Голубев пустился ругать горы за бескультурье администрации и инструкторов, за очереди, за тесноту, за принудительную музыку и за грязную посуду в столовой.
А снег валил и валил.
Коля Кораблев взялся за гитару, Леночка ему подпевала своим звенящим, как колокольчик, голоском. Сегодня они пели свои песни. Последняя из сочиненных ими песен имела рефрен:
А как нам жить, мы знаем сами.
Ведь вы с усами и мы с усами.
Юра послушал одну песню и ушел, озабоченный. Да и Кораблевы долго не сидели, видно было, что им не пелось.
— Что дальше? — спросил я Котлова, когда мы вернулись в свою комнату.
— Толик, — ответил он. — Анатолий Эдуардович Хударов.
И я решил пойти после ужина в бар. Толик будет сидеть там до тех пор, пока не подцепит очередную девицу и не выпьет последней поданной сегодня в баре рюмки. Котлову ни за что не раздобыть отпечатков его пальцев, а я их принесу. А то уж больно этот комиссар Мегрэ важничает.
Давно я не был в нашем баре, наверное с тех пор, как пошел мне пятый десяток. Появилась тогда у меня приятельница, медсестра из Куйбышева. Возраста... студенческого, скажем так. Приехала учиться кататься, совершенно ошалела от гор, и после окончания срока ее путевки похлопотал я, чтоб оставили ее еще на недельку. Вот однажды вечером она мне и говорит: «Пойдем в бар!» А я у нее спрашиваю: «Зачем?» — «Посидим, потанцуем, коктейль через соломинку...»
Чтобы не обижать ее, пошел. Дым коромыслом! Содом и гоморра! Музыка оглушает так, что разговаривать невозможно, даже если кричать в самое ухо. Фонари разных цветов мигают, бегают по лицам. А перед стойкой на свободном от столов месте вплотную друг к другу кривляются и подскакивают девочки и юнцы, в основном местные. Сесть негде. Но для меня нашлось место, посадили нас к себе мои бывшие ученики, сами сели по двое на один стул.
Принес я коктейль — бурду какую-то собачью с одной долькой апельсина. Сидим балдеем. Она в восторге, хотя старается принимать вид независимый, как у завсегдатая бара. Показывает мне жестами — пойдем, мол, танцевать. Взял ее розовое ушко и кричу в него: «Сиди здесь, танцуй и делай все, что хочешь. Я ухожу!» Встал и выбрался в коридор. Она за мной: «На что ты обиделся? Я тебе ничего плохого не сделала». «Нет, — говорю, — не сделала, и обид никаких. Сиди до полного обалдения. Я даже прошу тебя». Еле-еле запихнул ее обратно. Без толку объяснять, что ей двадцать, а мне за сорок. Останови я вдруг музыку, встань посередине и скажи: «Ребята! Что вы изголяетесь? Идите читать Достоевского, думать над тем, как и для чего живете!» Что они подумают? «Лезет старикан, куда его не просят. Умник какой нашелся!» Так уж пусть прыгают.
И вот впервые после этого вступаю я в наш бар, что в подвальном помещении. А там на удивление тихо. Народа много, а музыки нет. Огни горят, но не мигают, люди сидят за столиками и разговаривают. А люди взрослые. Нормальная человеческая обстановка. Полумрак, интим...
Осмотревшись, увидел у стойки на вращающемся стуле Толика рядом с девицей и в числе знакомых — Голубевых, сидящих в углу. Все занято, у стойки не протолкнуться. Чтобы Голубевы не успели меня пригласить за свой столик, я протиснулся к стойке и встал поближе к Толику. Перед ним и перед его девушкой стояли низкие и широкие рюмки с недопитым коньяком и коктейли в высоких стаканах с торчащими из них соломинками. Такую посуду отсюда не так просто утащить, рюмки и бокалы на виду у бармена, парня, крепко сбитого, лет тридцати, но уже с осоловевшими выцветшими глазами.
Я решил ждать и заказал себе сто граммов коньяку и коктейль. Вскоре к нам подошел Шамиль. Я стоял к нему спиной и только услышал, как Шамиль сказал:
— Толик, еще сто грамм, а? — и заискивающе рассмеялся, как смеется новоиспеченный муж при встрече с тещей.
Искоса я поглядывал на Толика и его девицу, Шамиля мне не было видно. На размалеванном лице совсем еще молоденькой девушки выражение непомерной гордости и недоступности сменилось брезгливостью. Толик лишь глянул через плечо на Шамиля и щелкнул пальцами поднятой руки:
— Батал! Сто грамм водки!
И сейчас же сидевший на разделявшем меня с Толиком стуле юнец слетел со своего круглого сиденья. На него взгромоздился Шамиль. Не успел он опрокинуть поданный ему стакан, как Толик процедил сквозь зубы:
— Получил свое — и вали отсюда...
— Ну что ж... ты тоже свое получаешь, и тебя могут так же... — ответил Шамиль.
Глаза Толика сверкнули стальным блеском.
— Болтаешь много, мозги пропил... — тихо и угрожающе произнес он. — Оттого и подохнешь. Вали, я сказал!
И тот улетучился, как тень отца Гамлета. Хотя я и не заметил, как он отошел, места не упустил и тут же уселся рядом с Толиком.
— Не возражаешь? — спросил я, взглянув в его лицо.
Это было неприятное лицо. Смуглое, с густыми бровями и сильной, безжалостной челюстью. Рот узкий, глаза маленькие и глубоко посаженные.
— Здорово, Саша! Сиди. — И он повернулся к своей спутнице.
Усевшись на вделанное намертво в пол ядовито-красное сиденье, я повращал его влево-вправо и опустил ноги на металлический круг, делающий все приспособление похожим на ядовитую поганку, возросшую и окрепшую на обильно удобренной алкоголем почве. Над каждой такой поганкой с потолка на длинном шнуре свисала небольшая лампа-фонарик, создавая на стойке круг света. Из такого круга Толик взял свою рюмку с коньяком, чокнулся с девицей и повернулся на стуле ко мне:
— Будь здоров, Александр!
Я выпил свой коньяк и тут же крикнул:
— Батал! Плесни мне еще, повтори, пожалуйста!
— Ты никак закирял? — крутанулся опять в мою сторону Толик. — Тебя тут давно не было. И чего один?
Стало быть, мне удалось произвести впечатление человека, желающего напиться.
— Да... — протянул я. — Надоело все, захотелось надраться. Завтра все равно ведь не работать. Погода шепчет...
— Больше метра, и все валит, — поддержал разговор Толик и спросил: — Ты можешь достать шапочку с «капустой»?
Бармен поставил передо мной коньяк, но опять не в такой рюмке, как у Толика, а в фужере. Мне следовало попросить не сто граммов, а пятьдесят. Придется еще заказывать.
Шапочки с Гербом Советского Союза, о которой он говорил, изготавливались для сборной страны. Я в сборную никогда не входил. У местных тренеров, работников канатки, спасателей и обслуги они нынче в самой большой цене. И хотя сроду этим не занимался, пристроив свой фужер в самый центр круга от лампы, ответил:
— Можно попробовать, если очень надо. Но только на следующий год. Есть у меня ребята.
Девушка оценивающе оглядывала меня.
— У тебя же есть на куртке, — кивнул я на его грудь, где среди всей пестроты фирменных знаков красовались золотые колосья.
— Не для себя, вот она просит, — кивнул он головой на девушку.
Делая вид, что не понимаю недолговечности присутствия девицы, я подыграл ему:
— Сейчас, прямо здесь, найти трудно. У кого есть, ни за что не отдаст, ты же знаешь. Нужно из Москвы везти.
Разговаривая, я переставлял по твердому лаку стойки, такому прочному, что его даже спирт не брал, стакан с недопитым коктейлем и фужер, косясь на пустой стакан своего соседа. Но тут подошел бармен и унес его.
— Еще пятьдесят грамм коньяку! — крикнул я ему вослед, надеясь получить такую же рюмку, как у Толика.
Но бармен подошел, взял мой фужер и вернул мне его с желтой жидкостью.
Нет, подмена — не метод. Надо придумать что-то другое. Так я действительно упьюсь вусмерть. Я уговаривал себя не торопиться, выжидать, но алкоголь тем временем делал свое дело.
Ждать пришлось недолго, Толик вынул из кармана ключ от английского замка и положил его перед девушкой:
— Иди ложись. Меня не жди.
Как только они встали и направились к двери, я схватил за ножку его рюмку, осторожно перевернул ее и, взявшись за края подставки, опустил руку с ней под стойку. Толик вышел не оборачиваясь, а его спутница повернулась перед дверью и окинула бар победоносным взглядом.
Они ушли около десяти часов вечера, а бар открыт до одиннадцати. Он был полон, и я, несмотря на царивший здесь полумрак, оказался у освещенной стойки на виду у всех. И бармен мог хватиться рюмки.
— Батал, сколько с меня?
Чтобы достать деньги, пришлось поставить рюмку на пол под стойкой. Кинув десятку, я снова взял рюмку за края подставки и так пошел с ней к выходу. У двери я обернулся и убедился, что бармен ничего не заметил. На меня смотрел только один Глеб.
Совсем молодцом, ничего не путая, я рассказал Котлову о том, как добыл рюмку Толика. Не забыл упомянуть о разговоре его с Шамилем и о том, что Толик, видимо, отправился в котельную.
Вместо того чтобы поблагодарить меня за принесенную рюмку, Котлов вдруг пришел в ярость. Сжал зубы, на скулах его заходили желваки, глаза загорелись нехорошим огнем.
— Кто вас просил?! — закричал он. — Я вас просил помогать мне, а не мешать! Чего вы лезете не в свои дела?!