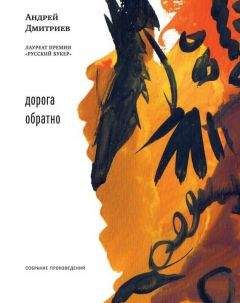— Нет, мой милый. — Она посмела выказать себя оскорбленной. — Я и не думала с тобой шутить; он редкий знаток сыров. Ему даже выбили специальную штатную единицу, пока полставки правда, но это — пока… Теперь Иоша — дегустатор сыра на молокозаводе.
— Иоша? О! — я взвыл. — Он где?
Оказалось, его нет в городе; перед самым моим прилетом его послали на сырный фестиваль в Эстонию. Я глядел в глаза моей Марины и на ее глазах сходил с ума. Она боялась замолчать и все говорила мне об Иоше, доверительно и без умолку, словно с подругой, всегда готовой разделить с нею ее удачу и радость, ее восторг:
— …если все будет хорошо, осенью он поедет в Голландию.
Я кисло и гордо сказал ей «прощай» и улетел в Новороссийск. Там я пил. Потом я плыл в ночи на каком-то драном и бойком буксире из Севастополя в Одессу: увязался за собутыльниками, — и всю ночь береговые огни Крыма качались, гасли и мигали перед пьяными моими глазами. Я сидел на палубе, свесив ноги за борт, болтал ногами, пил и плакал. Вначале мои слезы были злы: «Ты! — цедил я Марине сквозь слезы и ночь за две тысячи миль от нее, — ты, тварь, погубила меня! Я мог бы жить, а я плыву»… Мотор буксира побухивал себе в четыре такта, равнодушный к моему шипению, волна пошлепывала по железу, не смущаясь моими вскриками: «Пусть! пускай теперь не мои, а его прозрачные уши слушают твое вранье о вислоусых всадниках с архангельскими крыльями за спиной — в кино, тварь, и больше нигде, в костюмном польском фильме видела ты эти крылья!.. Или он и не слушает тебя вовсе: спит рядом с тобой на одной подушке и сопит тебе в ухо, пока я тут пью?.. Пусть! пусть даже проснется, пусть коснется тебя дохлой своей рукой, пусть раздвинет, тонконогий, твои ноги своей коленкой — ты сама это выбрала, и никакие жалобы мною сегодня не принимаются: только по присутственным дням! Ты меня слышишь, тварь: только по присутственным дням!». Встал туман, рассвело, гудки одесского порта уже манили издалека; за пеленой тумана заныли краны в доках, и я ослаб. Я вдруг подобрел; сказал: «Прости меня, — поперхнулся вином и остатками слез: — И будь ты счастлива, черт с тобой!».
Растеряв на берегу безымянных собутыльников с буксира и забыв об их существовании, я забрел на городской пляж и почти весь день вылеживался там возле самой воды, голый и потный, с бутылкой теплого портвейна «Анапа» у щеки. То был сплошь тяжелый, душный, темный сон без снов, из которого я, как из горячей смолы, с трудом выплывал порой, недолго озирался в ужасе и изумлении, видел жирное, поющее солнце над головой, желтые, масляно блестящие тела вокруг, нечистый песок возле самой моей головы, торопливо прикладывался к бутылке, смиренно закрывал глаза и, горько охнув, засыпал вновь.
День остывал, клонясь к закату, и портвейна в бутылке оставалось на самом донышке, когда я наконец пробудился с тем, чтобы больше не позволить себе заснуть. Допил подонки, дополз до воды, омылся теплой и мутной волной, колыхаясь в приливном токе и елозя брюхом по дну, подождал, когда прояснится голова, выполз на песок, поднял глаза и увидел Варенца.
— Сколько лет, салажонок, сколько зим, — сказал мне Варенец, стоя надо мной в полосатых плавках.
Остаток вечера говорил я. Покрытый вытертой клеенкой стол в глухом и шумном дворике, куда привел меня Варенец, шатался, вздрагивал, скрипел, грозил упасть вместе со стаканами, бутылками, помидорами, консервами и арбузом, когда со всего маху я опускал на клеенку свою ладонь или кулак, пересказывая Варенцу, словно самому близкому другу, откровения неверной моей Марины.
Ты только послушай меня, Варенец, говорил я ему, ты только врубись и проникнись так, как она просила меня проникнуться не моей, и не твоей, и не абы какой, а, понимаешь ли ты меня, подлинной человеческой драмой. Представь, к примеру, ежегодное начало ноября. На домах вывешивают флаги. Молокозавод к великой годовщине приготовил достижение — сорт сыра под названием «Октябрьский» или «Осенний», возможно даже «Красная гвоздика». И в аккурат к знаменательной дате новый сыр надо предъявить, официально утвердить, торжественно принять… И вот встает моя Марина рано поутру, варит ему кофе, гладит брюки, вяжет галстук, благословляет его в обе щеки, и он идет на молокозавод… Уже светает, но флаги еще черны; хлещет дождь пополам со снегом, флаги хлопают и мокнут на ветру. Зато в украшенном цветами и портретами фойе молокозавода светло, приподнято, уютно и тепло. За столами при всем параде — гости, на столах — сыр: круги и головы его стоят для красоты, кусочки на тарелочках лежат для пробы… Молокозавод собрался чуть поодаль, у столов в виду: сидит в рядах, в полном составе и тоже при параде; глядит торжественно на то, как гости из городского руководства, из областных верхов, вообще из отрасли и даже из Москвы поочередно пробуют, причмокивая, сыр, затем встают из-за стола, выходят на трибуну, украшенную гербом и графином, которая высится чуть сбоку, благодарят в микрофон ряды за проделанную работу, поздравляют и передают поздравления по случаю наступающей всеобщей годовщины. Иона в галстуке сидит в первых рядах. Он знает этот сыр, как знал и прежние сорта. От одного лишь вида этих ртов, жующих этот сыр, Ионе солоно во рту. Он кривится, прикрывая лицо ладонью, и знакомая, как приступ язвы, злая буря поднимается в его душе. На этот раз уж точно не сдержусь, ликуя уверяет он себя, — как выйду да как выскажу им всем, каким должен быть сыр! А это дырчатое мыло с горечью и солью пополам, сваренное вами из молока голодных, полудохлых, пестицидами травленных коров, выдержанное, вы только представьте, в невыразимом нашем цеху номер четыре и созревшее там ровно настолько, чтобы успеть его подать к этому вот столу, — зовите его «Праздничным», лишь бы не называть, как в позапрошлом году, «Осенним», зовите далее «Красной гвоздикой», лишь бы не вспоминать прошлогодний «Юбилейный сыр нежирный», — во всякий год это был, есть и будет все тот же местный «Пошехонский», все тот же местный «Российский» сыр, хотя и где оно теперь, не знаю, это Пошехонье, и в чем тут, я ума не приложу, провинилась Россия? Сыр, коллеги, должен быть… И тут как раз директор молокозавода взволнованно зовет его к столу, объясняя всем несведущим, что Иона — не обычный дегустатор, но тончайший, всесоюзно признанный знаток, лучшими коллективами отрасли и лучшими зарубежными мастерами выпестованный ценитель. Иона, нервно встав, идет меж стульев по рядам, поднимается к столу и в полной тишине полощет рот водой. Сплевывает ее, как водится, в специальную лоханочку. Затем берет кусочек сыра, чуть-чуть откусывает с уголка и, жмурясь, медленно, задумчиво жует… Открыв глаза, восходит на трибуну. Немигающим туманным взглядом обводит притихшие ряды, на столы не глядит и наконец негромко произносит: «Коллеги, сыр удался. Не вдаваясь в детали — о них я скажу в акте приемки — одно замечу: можно лишь порадоваться его тонкому, насыщенному вкусу, нужно поздравить с послевкусием. Примите же, товарищи, мои поздравления…». Он идет домой под непрестанным ледяным дождем, пытаясь на ходу согреться мыслью о весне. Весной ему обещана командировка в Льеж; там соберутся настоящие коллеги: Жан Бальзамо из-под Бордо, итальянец Пинелли, старый финн Пекка Маттинен, голландец ван дер Хаален и многие другие, известные и не очень, знакомые и незнакомые, сыропродавцы, сыровары и дегустаторы — благочестивые потомственные сырознатцы, жизнелюбивые умертвители молока. Там доведется пробовать сыры старинных, хорошо изученных, испытанных сортов, подмечая новые нюансы и грустя о старых, вдруг утерянных, рассуждая о смягчении рамболя, о наконец достигнутой прозрачности слезы у некоторых альпийских эмменталей при сохранении ее умеренной солоноватости… Мысль о весне тепла, но все ж во рту противно. Дома Иону бьет недобрая дрожь, моя Марина утешает его: «Все хорошо, прошло, и хорошо, забудь; не ты варил этот сыр, на нем нет твоего имени, есть только номер приемщицы на синем штампе… Весь этот сыр, как только его выкинут на прилавок, будет вмиг сметен, съеден и забыт. И все будет по-прежнему. До следующей великой годовщины — никакого сыра; в молочной секции — молочный порошок, в мясном отделе — кость пищевая, 10 копеек килограмм… Ты не казнись, терпи и, главное, мой милый, не теряй своего „я“».
— За эти муки, Варенец, она его и полюбила, — закончил я ее рассказ.
Одесский дворик потемнел, утих; горели в окнах абажуры; на нас прикрикнули из окон, чтоб мы кончали тут шуметь.
— Ша, — согласился Варенец, — шуметь не будем, — и шепотом предположил: — А может, она просто дура?
— Все может быть, — с готовностью ответил я тогда, и успокоился, и, благодарный, пообещал Варенцу, как только снова выйду в море, взять его с собой. Необдуманное обещание пришлось выполнять, и с тех пор мы вместе на всех морях.
Прошло еще семь лет, прежде чем я вновь увидел Марину. Было это летом девяносто первого. «Глеб Успенский», на котором я ходил тогда старпомом, надолго застрял, ожидая погрузки, на рейде мурманского порта. Я решил слетать на пару дней домой, проведать мать.