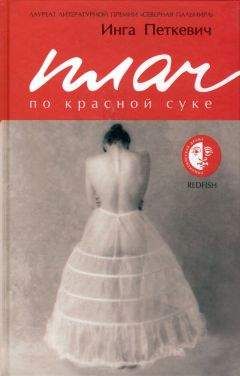Этот политурщик, видимо, ожидал свою карету, потому что, пока я разглядывала его, из-за печки появился молоденький милиционер и, взяв безжизненную руку политурщика, с осоловелым видом стал искать на ней пульс. При появлении милиционера я поспешно закрыла глаза, но тот не обратил на меня никакого внимания. Пощупав пульс, он лениво подошел к барьеру, облокотился на него спиной и, не спуская с политурщика сонных глаз, погрузился в оцепенение.
Сквозь ресницы я заметила, что милиционер почему-то не обращает на меня никакого внимания, точно не видит или не хочет видеть. Мне это не очень понравилось, и некоторое время я в упор глядела на него, но он не удостоил меня даже взглядом.
На его беспородном лице застыло дежурное выражение принадлежности милицейскому сословию. Этот ребенок с гнилыми глазами осоловело и в то же время с напряжением прислушивался к допросу, который вел его непосредственный начальник, скрытый за непроницаемой перегородкой.
Вопросы до меня не долетали, но вот некоторые ответы людей по эту сторону барьера настораживали. Во-первых, все голоса были мне очень знакомы, но почему-то я не могла определить, кому именно они принадлежат. Они звучали будто в полусне, когда какой-либо отчаянно знакомый голос вдруг громко окликает тебя по имени, и ты просыпаешься от этого окрика, но почему-то никак не можешь определить, кому именно этот голос принадлежит. Во-вторых, все эти голоса были очень испуганные, тревожные и серьезные. Какой-то напряженный, сдавленный страх сквозил в этом большей частью косноязычном бормотании, в этих обрывках фраз с ватой ужаса во рту.
Прислушиваясь вместе с милиционером, с которого я все еще не спускала глаз, я старалась по его лицу определить, что же там происходит, но тот глядел на политурщика, и только порой какой-то нервный тик пробегал по его невзрачным чертам, будто что-то отвлекало его внимание, что-то мешало сосредоточиться, и он нетерпеливым движением головы отгонял это что-то, точно комара или муху. Постепенно до меня дошло, что этим комаром была я, мое присутствие, мой упорный, настойчивый взгляд тревожил милиционера, и он непроизвольно отмахивался от него, как от насекомого. В то же время он ни разу прямо не взглянул на меня, словно глядеть на меня ему было недозволено.
Не требовалось особой сообразительности, чтобы уяснить для себя, что накануне мы крепко надрались, в результате чего и оказались в этом задрипанном участке. Но вот что именно мы натворили, я, хоть убей, не могла вспомнить, почему-то это начисто выпало из моей памяти. Честно говоря, и самой попойки я почему-то не запомнила, а вычислила ее, исходя из собственного самочувствия, весьма характерного, точнее, из ужасного собственного похмелья. Столь ужасного, что впервые в жизни я не помнила даже начала пьянки — как, где и почему она состоялась, то есть практически я не помнила ровным счетом ничего. Но похмелье было налицо, и с этим фактом приходилось считаться. Значит, все мы, то есть присутствующие, исключая, конечно, милиционеров, накануне или сегодня ночью где-то крепко надрались, после чего я отключилась, заснула и не участвовала в дальнейших событиях. Но зачем же в таком случае меня притащили сюда, притащили без сознания, к тому же босиком и полуголую? Какая была в этом необходимость? Кому все это понадобилось? Нет, как видно, я отключилась не полностью, бессознательно продолжала действовать и участвовать в каких-то ужасных событиях. Но каких? Что случилось? По всей вероятности, дело швах, кашу мы заварили изрядную, и нечего увиливать и прикидываться спящей, пора принять участие в общей заварушке, — может, что и прояснится. И я выпрямилась на своей скамейке, поправила волосы и плащ, под которым оказалась только ночная рубаха, пошевелила затекшими босыми ногами, но встать и подойти к барьеру не решилась из-за этого мальчишки-милиционера, который впервые поглядел в моем направлении, но поглядел так странно, будто прислушиваясь к чему-то. Этот настороженный взгляд прошил меня насквозь и пригвоздил к спинке скамейки. Не в силах истолковать иначе, я поняла его как приказ оставаться на месте и не рыпаться. И я осталась, но с удвоенным вниманием занялась изучением людей, вернее, спин, которые висели на барьере. Я узнавала отдельные детали одежды, прически и даже обуви, но вот имя их владельца почему-то ускользало от меня. Я выбирала себе объект, прилежно разглядывала его, с трудом определяла, кто же это такой, мучительно вспоминала его имя и фамилию, но когда переходила к следующему, тут же забывала предыдущего.
Тогда я решила, что мое сознание слишком травмировано пьянкой, нервы сдают, в голове все путается, поэтому надо вначале взять себя в руки и подойти к делу обстоятельно, то есть не метаться глазами по объектам, а выбрать себе один определенный и разглядеть его тщательно и досконально.
Я выбрала крайнего слева, но тут же с удивлением обнаружила, что количество спин передо мной заметно возросло. Не позволяя себе отвлекаться на этот странный феномен, приписав его опять же своему расстроенному воображению, я сосредоточила свое внимание на крайнем слева.
Я прилежно разглядывала его потертые джинсы и бархатный пиджак, его голову правильной формы с поседелыми волосами, туфли-кроссовки, шерстяные носки — и постепенно передо мной возникло лицо римского императора, не лишенное привлекательности, но пустое, подозрительное и лживое. С брезгливой досадой я вспоминала его седую волосатую грудь и большой золотой крест на ней.
Разглядывая его и слушая невнятную, уклончивую речь, я недоумевала, как он сюда попал и что все это значит. Он бубнил нечто о моей патологической чувственности, иначе говоря — похоти, якобы меня сгубившей. Услышать такое от человека, которого я, прямо скажем, терпеть не могла, было довольно странно, и я чуть было не сорвалась и не вцепилась в его античный загривок, но вовремя сдержалась. Что-то тут было не так, что-то сбивало с толку, настораживало.
Где-то отчаянно завизжал ребенок; все вздрогнули и переглянулись.
— Это кошки, — сказал голос из-за барьера. — Кошачья свадьба, — скрипуче уточнил он.
Все облегченно перевели дух, малость расслабились, зашевелились, и напряжение, которое до сего момента висело в помещении, разрядилось. Кто-то нервно хихикнул, но на него зашикали.
Тут что-то случилось с моим зрением: я с удивлением обнаружила, что количество спин передо мной заметно возросло, но все они стали одинаковыми. Все один и тот же римский загривок, размноженный во много раз, уходил в бесконечность. Идея равенства материализовалась во плоти.
«Ничего странного, — утешила я себя. — Человек — венец творения, но зачем же наделано столько копий?» Я не могла вспомнить, кто это сказал.
Я вдруг очень устала и, закрыв глаза, стала прислушиваться. Знакомый голос — с кашей ужаса во рту — невнятно бормотал что-то о собственной непричастности к преступлению. Он, мол, там оказался случайно, его даже не приглашали, он зашел после работы, он был трезвый и усталый, сразу опьянел, заснул и больше ничего не помнит. Меня он почти не знает (было названо мое имя), его привел К., которого он тоже не знает, точнее, видел пару раз…
Я узнала его по голосу. Это был омерзительно гнусный тип, шакал-трупоед, который исподволь проникал в любую компанию, ел и пил там всегда за чужой счет, а также пользовал баб, которые потеряли голову от пьянки или с отчаяния. Кривой, прыщавый и паскудный, как ядовитая поганка, он был о себе довольно высокого мнения и тоже, как все они, самоутверждался за счет баб. Я вообще не встречала в нашем обществе мужика, даже самого захудалого и задрипанного, который не почитал бы себя великим знатоком и покорителем женских сердец.
…Какой-то призрачный белесый свет лез в окно и, сливаясь с голубоватым светом люминесцентной лампы, наполнял помещение мерцающими бликами. Воняло мочой, масляной краской и табаком. Старое зеркало по-прежнему поблескивало в углу таинственно и заманчиво.
Голос будто переменился, стал более отчетливым и знакомым. Это был Рудик. Ничего нового и существенного он не сообщил. Он тоже отнекивался да отрекался от меня и от всех присутствующих. Я еще подумала, что и в самом деле они плохо знают друг друга, потому что объединяла их, собственно, я одна, а по сути, это люди совершенно разных слоев и категорий.
Но тут один вопрос насторожил мое внимание.
— Почему вы боялись света? — донеслось из-за перегородки.
Впервые услышав этот голос, я содрогнулась от омерзения. Он был сиплый, будто простуженный, с каким-то странным акустическим эффектом, будто из колодца, да, из обыкновенного сырого глубокого колодца. Мне показалось, что за перегородкой нет человека, а установлен аппарат вроде такого справочного оконца на вокзалах, ответ из которого так ошеломляет, что смысл редко доходит до вопрошающего и он в смятении спешит прочь в поисках живого человека, чтобы задать свой вопрос.