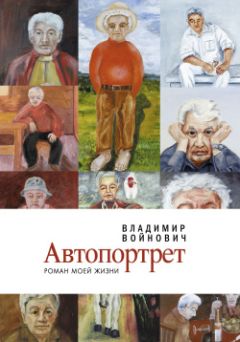В холле производственного комбината было шумнее обычного. Несколько человек толкались у столика усатой брюнетки Серафимы Борисовны, принимавшей заказ на копирку и гэдээровские ленты для пишущих машинок. Поэт-песенник Самарин демонстрировал своей молодой и полной жене новый костюм. Широко расставив ноги, он стоял посреди холла в пиджаке, утыканном иголками, и огромная лисья шапка копной выгоревшего сена неуверенно держалась на голове. Между ног его туда-сюда озабоченно ползал здоровый и краснолицый закройщик Саня Зарубин с клеенчатым сантиметром на шее. Со всех сторон слышны были негромкие разговоры, заглушаемые время от времени доносящимся из подвала ужасным визгом. Это механик по швейным машинкам Аркаша Глотов, овладев смежной профессией, обтачивал фарфоровые зубные протезы, которые делал, конечно, «налево».
Будучи полностью обеспечен и копиркой, и лентами для машинок, и даже финской бумагой, Ефим тем не менее протолкался к Серафиме Борисовне и вручил ей извлеченную из портфеля плитку шоколада «Гвардейский». От нее же он узнал, что заказы на шапки оформляет лично директор Андрей Андреевич Щупов, человек новый, строгий и очень принципиальный. Определение «строгий и принципиальный» означало, что не берет взяток или берет не со всех, в отличие от старого директора, который на том и погорел, что брал без разбору. Погорел, впрочем, не так уж и сильно – его перевели директором подмосковного Дома творчества, где он тоже жил не только на зарплату. Очередь к директору начиналась здесь, в холле, и уходила в коридор к черной директорской двери.
– Кто последний за пыжиком? – шутя спросил Ефим.
Последним был юморист Ерофеев, мрачный пожилой человек со шрамом на левой щеке.
– За пыжиком, милейший, в очереди не стоят, – назидательно объяснил он Ефиму. – Пыжика приносят на дом, говорят «спасибо» и кланяются. Стоят за мехом попроще.
Ефим обратил внимание, что составлявшие очередь писатели тоже о своих головных уборах подумали. Некоторые были, как он, без ничего, другие в кепках и шляпах, а Ерофеев мял в руке милицейскую шапку со следом от звездочки. Ратиновое пальто на Ерофееве было расстегнуто и открывало длинный темный пиджак с двумя рядами орденов и медалей. «Вот дурак-то!» – подумал про себя Ефим, ему следовало не писать о своих наградах, а нацепить их. Хоть и невысокого достоинства, а впечатление производят.
Он стал за юмористом и, не теряя времени даром, достал из портфеля экземпляр «Лавины», развернул на колене и на титульном листе размашисто начертал:
«Андрею Андреевичу Щупову в знак глубокого уважения. Е. Рахлин».
– Какое сегодня число? – спросил он у Ерофеева и, проставляя дату, услышал:
– Фима!
Оглянулся и увидел сидевшего за журнальным столиком у окна своего бывшего однокашника по Литинституту прозаика Анатолия Мыльникова в тяжелой нараспашку шубе. Лицо у него было красное, как из бани, виски блестели от пота, седоватая прядь волос закрутилась и слиплась на лбу.
– А я тебя не заметил, – сказал Ефим виновато. – Ты тоже за шапкой?
– Нет, – поморщился Мыльников. – У меня своя, вот. – Он показал на шапку, которую держал на коленях. – Это барсук. Мне тут один алкаш обещал импортные краны для ванной, вот я и жду. Садись, пока место есть.
– А я думал, ты за шапкой, – сказал Ефим, присаживаясь, и почему-то вздохнул. – У меня, честно говоря, тоже есть шапка. Волчья. Мне ее подарили оленеводы. Но если дают, почему же не взять?
– А, ты эти шапки, которые здесь шьют, имеешь в виду! Так эту я давно уже, месяца два тому назад, получил и отдал племяннику. Он как увидел ондатру, так чуть с ума не сошел.
– Тебе дали ондатровую шапку? – удивился Ефим.
– Да, – рассеянно подтвердил Мыльников, – ондатровую. А что?
– А ничего, – скромно сказал Ефим. – Баранову, например, дали из кролика. Ну, ты же у нас, – Ефим льстиво улыбнулся, – живой классик.
Карьера Мыльникова по непонятным Ефиму причинам сложилась более успешно, чем его собственная, хотя Мыльников писал не только о хороших людях, писал не так много и печать его больше ругала, чем хвалила. Но обруганные книги Мыльникова привлекли внимание, были переведены на несколько языков, и начальству приходилось с этим считаться. Мыльникова, несмотря на ругань, продолжали печатать и даже выпускали за границу в составе разных делегаций и отдельно. Наблюдая за карьерой Мыльникова, Ефим видел, что для большого успеха гораздо выгоднее время от времени вызывать недовольство начальства, но при этом уметь балансировать, и что одни только хвалебные отзывы критиков на самом деле ничего не значат: тебя одновременно и хвалят, и презирают.
На свои заграничные гонорары Мыльников купил себе экспортную «Волгу» (другие писатели, в лучшем случае, ездили на «Жигулях»), видеомагнитофон, а дома угощал гостей виски и джином.
Сейчас он рассказывал Ефиму о своей недавней поездке в Лондон, где прочел пару лекций, давал интервью, видел последний порношедевр и даже выступал по Би-би-си. По его словам, он имел в Лондоне бурный успех.
– В «Таймс» обо мне писали, что я современный Чехов, – говорил Мыльников вполголоса. – В «Гардиан» была очень положительная рецензия…
Он начал было пересказывать эту рецензию, но тут подошла Ефимова очередь, и его позвали к директору.
Войдя в директорский кабинет, Ефим увидел за тяжелым столом под плакатом с портретами членов Политбюро угрюмого человека с деревянным лицом, не имеющим выражения.
– Здравствуйте, Андрей Андреевич! – бодро поздоровался Ефим и тряхнул головой. Он попытался изобразить легкую, открытую и естественную приветливость, но под тяжелым взглядом директора съежился, ощущая, как лицо само по себе сморщивается в угодливую, несчастную и ничтожную вроде улыбку.
Директор ничего не ответил.
Перегибаясь под тяжестью портфеля на одну сторону и чувствуя во всем теле жалкую суетливость, Ефим продвинулся к столу, на ходу нелепо улыбаясь и кланяясь.
– Рахлин Ефим Семенович, – назвал он себя и посмотрел на директора, надеясь, что тот тоже представится. Но Андрей Андреевич продолжал смотреть на Ефима недружелюбно и прямо, не ответил, не встал, не подал руки, не предложил даже сесть.
Обычно руководители мелких обслуживающих организаций были с писателями вежливей.
Не дождавшись приглашения, Ефим сам придвинул стул, сел, поставил портфель на колени и, почти овладев собой, умильно посмотрел на Андрея Андреевича:
– Значит, вы теперь у нас будете директором?
– Не буду, а есть, – поправил Андрей Андреевич, и это были первые слова, которые от него услышал Ефим.
– Ну да, да, да, – закивал Ефим торопливо. – Конечно, не будете, а есть, это я неправильно выразился. Вы к нам, вероятно, из торговой сети пришли?
Андрей Андреевич посмотрел на Ефима внимательно, помолчал, разглядывая, а потом сказал просто:
– Нет, я из органов.
На этот ответ внутренние органы Ефима отреагировали рефлекторным похолоданием и некоторым опусканием в низ живота. Нет, он не испугался (бояться не было причины), но неестественно дернулся и сначала опустил, а затем поднял голову. Он устремил свой взгляд на директора, давая ему понять, что ему нечего, совершенно нечего скрывать от органов, он перед ними как стеклышко чист. Но, встретившись с тяжелым взглядом директора, смутился, потупился, взгляда не выдержал. И тем самым выдал себя с головой. Кто совершенно чист, тому незачем прятать глаза.
– Из органов! – повторил он, пытаясь взбодрить самого себя. – Очень приятно! – Всей своей фигурой и лицом он изображал почтение к прежней деятельности директора, но глаза его предательски бегали. – Значит, вас прислали сюда на укрепление?
– Да, – разжал губы Андрей Андреевич, – на укрепление. А вам что угодно?
Смущаясь, робея, уже и не пытаясь поднять глаза, Ефим торопливо стал объяснять, что он слышал, что в Литфонде можно сшить шапку, причем ему нужна хорошая шапка, потому что он часто бывает в экспедициях весьма важного государственного и научного назначения, где он изучает жизнь наших мужественных современников.
Андрей Андреевич выслушал Ефима и спросил, член ли он Союза писателей. Ефим объяснил, что уже восемнадцать лет член, что билет ему в свое время вручил лично Константин Федин, что он, Рахлин, ветеран войны, имеет правительственные награды, написал одиннадцать книг и активно участвует в комиссии по приключенческой литературе. И выложил на стол заявление.
Директор проскользил глазами по тексту, открыл ящик стола и долго в него смотрел, шевеля губами. Затем ящик с грохотом был задвинут, а на заявлении Ефима красным карандашом изображена наискосок длинная резолюция. Ефим схватил заявление, вскочил на ноги, похлопал по карманам, достал очки, нацепил их и прочитал: «Принять заказ на головной убор из меха «Кот домашний средней пушистости».
– Кот домашний, – повторил Ефим неуверенно. – Это что такое «кот домашний»?