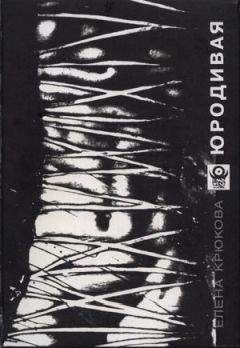Я бормотала без устали, без остановки, бред рос и ширился, я волокла старика через зверьи спины, мешки и канаты во мрак вонючего трюмного закута. Мы катились через зверей, чертыхаясь, цепляясь друг за друга, сдирая когтями кожу друг у друга с рук, проклиная друг друга, пока не оказались во тьме, и даже волоска белой бороденки старика я не могла бы разглядеть. Я все это придумала на ходу, про мужа, я испугалась, что старик бросит меня волкам, а они не почуют свою кровь, да и слова звериного, одного-единственного, я не знаю; вот я затащила его сюда, а он старый, больной и немощный, и мне ничего не стоит побороть его, вот, сейчас я могу его повалить, а что, если я притворюсь возжелавшей его, его, старого, больного и немощного, изморщенного, седого и иссохшего, да он ни за что в жизни не поверит, но люди всегда верят во все, и чем невероятнее, тем сильнее вера, сейчас я привлеку его к себе, поцелую воняющий чесноком рот, лягу на пол и повалю на себя сухие, остро торчащие кости, и он тяжело задышит, и это он теперь будет вырываться, испугавшись, потому что нет уже в нем, старике, зверьей силы, покинула его навсегда сила медвежья и волчья, и он забоится своего человечьего позора и несчастья, горя времени и жизни, а я буду, как нарочно, шептать ему в ухо горячие слова, разжигать, подзуживать, сминать его в молодых объятиях, — и он понял это, он уже сам хочет вырваться из моих рук, и он шипит мне в ухо по-змеиному: «Так это я, что ли, муж твой, шутница, волчица зубастая?!..» — а я отвечаю ему: «Так темно здесь, а я сильнее тебя, я сейчас тебя повалю и задушу, и никто не узнает никогда, здесь же одни звери, а я сама доведу баржу до берега, я с большой реки родом, я знаю, как гнать плот, как вести лодочный караван, я останусь одна со зверями, женщина и звери, к это я спасу их, я, а не ты!.. и мне достанется, старик, вся жалкая слава твоя…» — а он уже обнимал меня жалобно, просительно так, жалостливо, он уже на жалость бил, он уже просил меня, умолял: «Погоди, ну, погоди же, я пошутил, н сам не хотел, я буду хранить тебя, я буду тебе отцом, братом, другом, я буду твоей постелью и твоей миской, я буду твоей ложкой и твоим нагрудным украшением, только не убивай меня, я же не зверь, чтобы на меня охотились и убили меня, я человек, я… ЧЕЛОВЕК!..» — а я говорила: «Как здесь темно, душно, зажечь бы свет, хоть лучину, хоть язык свечи, хоть хвост каната, а то, может, шерсть из волчьего хвоста моего жениха выдерем да подпалим?!..» — и старик радостно закивал, он обрадовался, что я хочу света, он с готовностью сгорбился, ища на полу, что бы зажечь: «А вот вобла, сушеная рыба, жирная!.. она хорошо горит, не знаю, чем бы подпалить…» — и я взяла вяленую рыбину в руки, и она загорелась сама собой, запылала; и старик в ужасе отшатнулся, завопив: «Колдунья!..» — на что я ему ответила надменно: «Если будешь хныкать, на месте этой рыбки окажешься», — и вобла горела как факел, как яркий жертвенный факел, как смоляной факел, с которым гонцы бегут в ночи, и в рвущемся в духоте и вони золотом свете я и старик, мы оба, вцепившиеся друг в друга, увидели, что в углу трюма спит человек, повернувшись к нам спиной.
Он спал, поджав грязные ноги, он опять спал, почему он все время спал, как будто не успел, не смог выспаться на том свете, на том или на этом; серая рубаха, бывшая когда-то белой, грязная и тюремная, и на замызганной ткани, на спине, два красных пятна; поближе наклонюсь, зажму рот рукой, чтобы не захохотать и не заплакать: это два сердца, два красных сердца, намалеванных масляной краской. «Юхан, Юхан!..» — кричу я, обмирая, с гирькой холода в животе, с волной холода в груди, а старик скалится, его пасть полна сломанных в давних драках зубов, он цедит насмешливо: «Ну и имечко у твоего дружка, так вас тут двое на баржу пробралось, тоже захотели шкуру спасти, все рассчитали, кроме моей баржи ничего не вычислили, муж он ей, да кто вас за ноги держал, приблудный пес, урка, жиган твой дружок, я таких, как он, в свое время… в свое…» Старик опять закашлялся. Он не выносил воспоминаний, как все старики. «Ты же сам говорил… — я задохнулась от обиды, — что для меня подыщешь пару! Что надо плодиться! Размножаться! Что все на твоей барже парами плывут! Что ты так на меня уставился! У тебя расческа вместо зубов! Не укусишь! А это муж мой, Юхан, спит! И пусть спит, отдыхает! Только посмей его разбудить!..»
«А вот и разбужу, а вот и разбужу!» — закричал старик и ткнул спящего в бок ногой. «Вставай, собака!»
Он не собака, он человек, хотела я сказать, обернулась и обомлела. Вместо скорчившегося Юхана на подстилке в трюмном закутке лежал огромный пес, из тех, кого крестьяне держат при стаде за пастуха. Старик остервенело толкал его в мохнатый бок носком стоптанного башмака.
«Пес, пес, — сказала я горько, — и я люблю тебя. И ты прости этому человеку за то, что он тебя бьет. Бьет — это тоже значит любит».
…ты, фраер, отвали от нее, не видишь — она слепая.
А что? Задрало?
Ты, соглядатай, гляди-гляди, да не забудь пасть прихлопнуть. Едало утри, кости повыбью.
На, бей меня! Меня! Только ее не бей! Она же кошка! Маленькая кошечка!
Вошка она, а не кошка, одной больше, одной меньше.
Эй, надзир, не суйся сюда! Еще каляпы протянешь — без манной каши отожмешься!
Эй, эй, дура слепая, долго еще будешь в слепырки играть?! Девочка-девочка, нехорошо обманывать. Еще проволынишь — мы тебе буркалы ножичком вынем и искусственные вставим, из бутылочного стекла, чтоб красивше было.
Как ее звать?.. Глафира?.. Манька?..
Ксенька, Прыщ брехал.
Ксенька! Ксенька!
— Ксенька, очнись!.. Ксенька!.. на воды. Черт, язви ее, по подбородку льется, а в нее ни капли не попало. Всю залил водой. В уши ей натекло. Ксенька, тебя опять бить идут!.. мы тебя спрячем, мы тебя закроем отлично, все будет в ажуре, эй, ерши, бросайте на нее халаты, тряпки, сапоги, ложитесь на нее, давите ее… лучше позадыхается немного под нашими костями, чем опять допрос…
Она открыла глаза. Бесполезно. Серая пелена. Снова закрыла. Серый дым клубился, рос, метался серой мулетой. На губах вкус селедки. Это вкус крови, она знает. Не может быть, чтобы ее накормили селедкой. Это деликатес в тюрьме. Все равно что черная икра. А Прыщ говорит, это самая дешевая пища для заключенных. И самая мучительная. От нее пить хочется, а пить не дают. Так изобретают еще одну пытку. И не подкопаешься. Зачем они ложатся на нее? Какие тяжелые тела. Они живые. Они костлявые, смеющиеся, рыгающие, гогочущие, потные, холодные. Они едят так мало; почему они так тяжко задавили ее? Тел много. Они ложатся друг на друга, как бревна. Они погребают ее под собой. Она задыхается. Воздуху. Воздуху. Это новая пытка. А они клянутся, что хотят ее спасти.
— Заключенная Ксения, фамилию не назвала, встать!
— Нет ее! Кролик сдох!
— Как это понять «сдох»?!.. Тело взять! В морг!
— Отзынь ты со своим моргом… сбежала она!
— Повтори еще. Повторяй это много раз и каждый раз давай мне червонец, когда я буду это слышать.
— Ша, ребята!.. что-то тут подо мной такое… шевелится… колючее!..
— А это у Ксеньки кожа на животе, как рашпиль, всего тебя исколет, будешь знать, как по молоденьким уточкам елозить… Ну, если тебе повезет, ты можешь там, втихаря, ей… пока куча мала вся возится…
— Да все, кранты, опенки, она не движется, не дышит, она уже лежит без сопения… как мертвяк…
— А-а-а-а-а!.. Тру-у-у-у-уп!..
— Во орет, глотки не жалка Глотка казенная.
…она проваливалась, исчезала, снова появлялась. Ветер гулял в ее волосах. Мыл ей широкие скулы, щеки. Осушал слезы. Ей надоело реветь. Она решила, что не будет реветь даже тогда, когда ее будут, ну, вдруг такое случится, распиливать пилой надвое. При этом надо петь песни и хвалить пильщика. Надо раскорячить ноги, чтобы палач видел женскую прелесть; женская прелесть находится внутри сжатых крепко бедер, когда их разведут, можно обнаружить, что кожа невидимых ног выше от колен нежнее перламутра, белее теплее жемчуга, за которым ныряют в далеких восточных морях узкоглазые девочки; если самый жестокий человек мира будет глядеть на эту красоту и трогать ее, гладить и вдыхать, а осмелясь, и целовать, то бросит он прочь любую пилу, любой топор, поднимет прелестную женщину на руки и бросит ею вызов смерти и жестокости. Ха! А продолжают убивать. И надвое распиливать — продолжают. И, Боже, как я хочу быть красивой. Ведь я же, должно быть, уродка. Ведь красавиц не пытают, их не связывают веревками, не душат удавками. Я ненавижу, когда придушат, а потом отпустят. Уж лучше бы сразу. Я не медный маятник. И у меня есть гордость.
Ах, гордость была у нее. И она умела скакать на коне. Это было так странно. Будто она сидела на облаках, а огромный ветер нес ее вместе с облаками над землей, земля была далеко внизу, и хвосты ковылей неслись по ветру. Дикие ее волосы шумели за плечами. Ветер бил, как в бубен, ей в лоб, в грудь и живот. Живот ее был бубен, и пронзительный колокольчик висел у нее внизу живота. Женщины вплетали себе в тайные завитки волос, туда, между крепко сжатых ног, речные жемчужины и красные кабошоны яшмы. Это считалось красивым и прельстительным для воина — жениха, мужа. Девственницы тоже делали так, хоть их ухищрений не видел никто. Она подъехала на коне к царю. «Почему на тебе венец в виде турьих рогов? — спросил Царь, — ты же не девственница. Многие мужи нашего племени пояли тебя». Она усмехнулась. Гордость и жалость забились прибоем крови на ее лице. «Я имею право на такой головной убор. Я его отработала. Собой». Под царем играл гнедой конь. Она сидела на вороном. «Было много перерождений?» — строго спросил Царь. «Ровно тысяча. У тех, кто перевалит за тысячу рождений, наступает очищение. Женщина, рожавшая многажды, обретает девство. Но я, Царь, не хочу такой чести. У женщины, которая рожает души, не только тела, есть гордость. Она хочет быть и пребыть женщиной. Она хочет стать и остаться ею навсегда. Я не понимаю девства. Я не хочу его. Я приискала к тебе на резвом коне. й не могу и не хочу медлить. Возьми!»