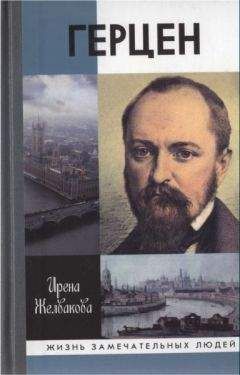Я говорил уже прежде, что мало женщин было во всем нашем кругу, особенно таких, с которыми бы я был близок; моя дружба, сначала пламенная, к корчевской кузине приняла мало-помалу ровный характер, после ее замужества мы видались реже, потом она уехала. Потребность чувства больше теплого, больше нежного, чем наша мужская дружба, неопределенно бродила в сердце. Все было готово, недоставало только «ее». В одном из знакомых нам домов была молодая девушка, с которой я скоро подружился, странный случай сблизил нас. Она была помолвлена, вдруг вышла какая-то ссора, жених оставил ее и уехал куда-то на другой край России. Она была в отчаянии, огорчена, оскорблена; с искренним и глубоким участием смотрел я, как горе разъедало ее; не смея заикнуться о причине, я старался рассеять ее, утешить, носил романы, сам их читал вслух, рассказывал целые повести и иногда не приготовлялся вовсе к университетским лекциям, чтоб подольше посидеть с огорченной девушкой.
Мало-помалу слезы ее становились реже, улыбка светилась по временам из-за них; отчаянье ее превращалось в томную грусть; скоро ей сделалось страшно за прошедшее, она боролась с собой и отстаивала его против настоящего из сердечного point dhonneura,[196] — как воин отстаивает знамя, понимая, что сражение потеряно. Я видел эти последние облака, едва задержанные у небосклона, и, сам увлеченный и с бьющимся сердцем — тихо-тихо вынимал из ее рук знамя, а когда она (325) перестала его удерживать — я был влюблен. Мы верили в нашу любовь. Она мне писала стихи, я писал ей в прозе целые диссертации, а потом мы вместе мечтали о будущем, о ссылке, о казематах, она была на все готова. Внешняя сторона жизни никогда не рисовалась светлой в наших фантазиях, обреченные на бой с чудовищною силою, успех нам казался почти невозможным. «Будь моей Гаетаной», — говорил я ей, читая «Изувеченного» Сантина, и воображал, как она проводит меня в сибирские рудники.
«Изувеченный» — это тот поэт, который написал пасквиль на Сикста V и выдал себя, когда папа дал слово не казнить виновного смертью. Сиксту велел ему отрубить руки и язык. Образ несчастного страдальца, задыхающегося от собственной полноты мыслей, которые теснятся в его голове, не находя выхода, не мог не нравиться нам тогда. Грустный и истомленный взгляд страдальца успокоивался только и останавливался с благодарностью и остатком веселья на девушке, которая любила его прежде и не изменила ему в несчастии, ее-то звали Гаетаной.
Этот первый опыт любви прошел скоро, но он был совершенно искренен. Может, даже эта любовь должна была пройти, иначе она лишилась бы своего лучшего, самого благоуханного достоинства, своего девятнадцатилетнего возраста, своей непорочной свежести. Когда же ландыши зимуют?
И неужели ты, моя Гаетана, не с той же ясной улыбкой вспоминаешь о нашей встрече, неужели, что-нибудь горькое примешивается к памяти обо мне через двадцать два года? Мне было бы это очень больно. И где ты? И как прожила жизнь?
Я свою дожил и плетусь теперь под гору, сломленный и нравственно «изувеченный», не ищу никакой Гаетаны, перебираю старое и память о тебе встретил радостно… Помнишь угольное окно против небольшого переулка, в который мне надобно было заворачивать, ты всегда подходила к нему, провожая меня, и как бы я огорчился, если б ты не подошла или ушла бы прежде, нежели мне приходилось повернуть.
А встретить тебя в самом деле я не хотел бы. Ты в моем воображении осталась с твоим юным лицом, с (326) твоими кудрями blond cendre,[197] останься такою, ведь и ты, если вспоминаешь обо мне, то помнишь стройного юношу с искрящимся взглядом, с огненной речью, так и помни и не знай, что взгляд потух, что я отяжелел, что морщины прошли по лбу, что давно нет прежнего светлого и оживленного выражения в лице, которое Огарев называл «выражением надежды», да нет и надежд.
Друг для друга мы должны быть такими, какими были тогда… ни Ахилл, ни Диана не стареются… Не хочу встретиться с тобою, как Ларина с княжной Алиной:
Кузина, помнишь Грандисона? —
Как? Грандисон?! А, Грандисон!
В Москве живет у Симеона,
Меня в сочельник навестил,
Недавно сына он женил.
…Последнее пламя потухавшей любви осветило на минуту тюремный свод, согрело грудь прежними мечтами, и каждый пошел своим путем. Она уехала в Украину, я собирался в ссылку. С тех пор не было вести об ней.
Разлука.Ах люди, люди злые,
Вы их разрознили…
Так оканчивалось мое первое письмо к Natalie, и замечательно, что, испуганный словом «сердца», я его не написал, а написал в конце письма «Твой брат».
Как дорога мне была уже тогда моя сестра и как беспрерывно в моем уме, видно из того, что я писал к ней из Нижнего, из Казани и на другой день после приезда в Пермь. Слово сестра выражало все сознанное в нашей симпатии; оно мне бесконечно нравилось и теперь нравится, употребляемое не как предел, а, напротив, как смешение их, в нем соединены дружба, любовь, кровная связь, общее предание, родная обстановка, (327) привычная неразрывность. Я никого не называл прежде этим именем, и оно было мне так дорого, что я и впоследствии часто называл Natalie так.
Прежде нежели я вполне понял наше отношение и, может, именно оттого, что не понимал его вполне, меня ожидал иной искус, который мне не прошел такой светлой полоской, как встреча с Гаетаной, искус, смиривший меня и стоивший мне много печали и внутренней тревоги.
Очень мало опытный в жизни и брошенный в мир, совершенно мне чуждый, после девятимесячной тюрьмы, я жил сначала рассеянно, без оглядки, новый край, новая обстановка рябили перед глазами. Мое общественное положение изменилось. В Перми, в Вятке на меня смотрели совсем иначе, чем в Москве; там я был молодым человеком, жившим в родительском доме, здесь, в этом болоте, я стал на свои ноги, был принимаем за чиновника, хотя и не был вовсе им. Не трудно было мне догадаться, что без большого труда я мог играть роль светского человека в заволжских и закамских гостиных и быть львом в вятском обществе.
В Перми я не успел оглядеться, там только хозяйка дома, к которой я пришел нанимать квартиру, спрашивала меня, нужен ли мне огород и держу ли я корову! Вопрос, по которому я с ужасом вымерил мое падение с академических высот студентской жизни! Но в Вятке я перезнакомился со всем светом, особенно с молодым купечеством, которое там гораздо образованнее купечества внутренних губерний, хотя кутить любит не меньше. Сбитый канцелярией с моих занятий, я вел беспокойно праздную жизнь; при особенной удобовпечатлимости или, лучше сказать, удободвижимости характера и отсутствии опытности можно было ждать ряд всякого рода столкновений.
В силу кокетливой страсти de lapprobativite[198] я старался нравиться направо и налево, без разбора кому, натягивал симпатии, дружился по десяти словам, сближался больше, чем нужно, сознавал свою ошибку через месяц или два, молчал из деликатности и таскал скучную цепь неистинных отношений до тех пор, пока она не обрывалась нелепой ссорой, в которой меня же обви(328)няли в капризной нетерпимости, в неблагодарности, в непостоянстве.
Я сначала жил в Вятке не один. Странное и комическое лицо, которое время от времени является на всех перепутьях моей жизни, при всех важных событиях ее, — лицо, которое тонет для того, чтоб меня познакомить с Огаревым, и машет фуляром с русской земли, когда я переезжаю таурогенскую границу, словом, К. И. Зонненберг жил со мною в Вятке; я забыл об этом, рассказывая мою ссылку.
Случилось это так: в то время, как меня отправляли в Пермь, Зонненберг собирался на ирбитскую ярмарку. Отец мой, любивший всегда усложнять простые дела, предложил Зонненбергу заехать в Пермь и там монтировать мой дом, за это он брал на себя путевые издержки.
В Перми Зонненберг ревностно принялся за дело, то есть за покупку ненужных вещей, всякой посуды, кастрюль, чашек, хрусталю, запасов; он сам ездил на Обву, чтоб приобрести ex ipso fonte[199] вятскую лошадь. Когда все было готово, меня перевели в Вятку. Мы распродали за полцены купленное добро и оставили Пермь. Зонненберг, добросовестно исполняя волю моего отца, счел необходимым ехать также и в Вятку «монтировать» мой дом. Отец мой так был доволен его преданностью и самоотвержением, что положил ему сто рублей жалованья в месяц, пока он будет у меня. Это было выгоднее и вернее Ирбита — и он не Торопился меня оставить.
В Вятке он уже купил не одну, а трех лошадей, из которых одна принадлежала ему самому, хотя тоже была куплена на деньги моего отца. Лошади эти подняли нас чрезвычайно в глазах вятского общества. Карл Иванович, мы уже говорили это, несмотря на свой пятидесятилетний возраст и на значительные недостатки в лице, был большой волокита и был приятно уверен, что всякая женщина и девушка, подходящая к нему, подвергается опасности мотылька, летающего возле зажженной свечи. Действие, произведенное лошадьми, Карл Иванович утратить не хотел и старался вывести из него пользу по эротической части. К тому же все (329) обстоятельства ему способствовали, у нас был балкон, выходящий на двор, за которым начинался сад. С десяти часов утра Зонненберг в казанских ичигах, в шитой золотом тибитейке и в кавказском бешмете, с огромным янтарным мундштуком, во рту, сидел на вахте, делая вид, будто читает. Тибитейка и янтарь — все это было направлено на трех барышень, живших в соседнем доме. Барышни, с своей стороны, занимались приезжими и с любопытством рассматривали восточную куклу, курившую на балконе. Карл Иванович знал, когда и как тайком они подымали стору, находил, что дела его идут успешно — и нежно выпускал дым легкой струйкой по заветному направлению.