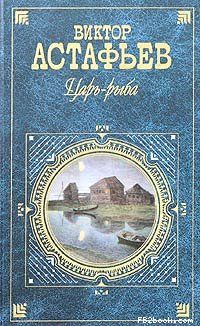— Чего это ты скрежещешь и скрежещешь? Невозможно терпеть. Прямо сердце перепиливаешь!..
Как и у всякого вымотанного болезнью человека, у нее были слабые нервы. Живая темная волна волос ее набегала на отбеленные, захлестывала, смывала искусственную муть. И внутри человека, угадывал Аким, отмирало и менялось что-то. Стесняясь недоступного ему, сложного мира женщины, который содрогнулся, сломался считай и вот вновь обретал краски, звуки, движения, воспринимал все это внове, Аким решил не тревожить ее расспросами, наоборот, избавлять от худых воспоминаний, отвлекать. Давно надо было предложить Эле обрезать эти двойного цвета волосы — мыла много уходит, да, может, ей нравится так? «Как-нибудь обойдемся. Пускай покрасуется…»
Аким отнес козлины подальше — Эля понятия не имела, сколько уходит дров за ночь и сколько их еще понадобится — большие морозы пока еще не грянули. Потому и уходить нельзя, лед на Эндэ ненадежен, ахнешься в полынью или в чарусу на болотах с попутчицей, наплюхаешься…
Аким потихоньку втягивал ее в дела: то пол подмести просил, то поштопать, то сварить чего, и она не без гордости бралась за веник, иголку. Но и это ей большой работой казалось, потому что она настоящей-то работы, по правде сказать, пока еще и знать не знала, и ведать не ведала. Но уж и то хорошо, что иголкой владела, пол подмести и обмахнуть тряпкой могла, похлебку какую-никакую сварить и не пересолить — почему-то всегда они, городские-то, на языки только ловки, еду пересаливают, каша у них пригорает, а то еще и сами обгорят у огня.
Утрами хрустел, сверкал вокруг чарым — осенний наст. Аким старался бегом проверить десяток капканов, разбросанных поблизости, три кулемки за речкой, стрелял пяток-другой белок, для чего стал брать с собою Розку. Долг-должок, хоть какую-то часть его надо отработать, никто не покроет, не спишет долг-то: к ответу потянут, жулик, скажут, проходимец, надул контору.
Эле в избушке тоскливо, жутковато, и чем она становилась здоровее, тем больше угнетало ее одиночество. Однако просить Акима, чтоб он не шлялся по тайге, не бросал ее одну, она не смела — не утехи ради носится «пана» по тайге. И все-таки Эля сорвалась, неожиданно даже для себя. Аким обдирал белок возле печи, бросал тушки за дверь. Розка там их уминала, похрустывая косточками, будто макаронами. Элю замутило, она попросила подать с печки кружку с водой. Аким охотно подал ей навар с травой седьмичником — от жены Парамона Парамоновича он перенял не только восклицание: «Тихая ужасть!», но и кой-какие навыки в пользовании всякого рода снадобьями. У каждого лекаря-самоучки есть своя заветная травка, в силу которой он верит особо, такой вот заветной травкой жены знаменитого речника был седьмичник, цветок о семи лепестках, что цветет в июле и считается не только целебным, но и приворотным средством. Этот самый седьмичник Аким, где бы ни увидел, обязательно срывал, и нынче запас он колдовской травы, экономно ее заваривал, давая больной испить на сон.
Руки охотника в сукровице, в приставшей к пальцам жаровой и серой шерсти.
— Отвратительно! Отвра-ти-ительно! — Эля вышибла из руки Акима кружку и закрыла лицо руками.
Не сразу догадавшись, в чем дело, Аким поднял посудину, заскреб с пола разваренные былки седьмичника, жалея добро, растряс их за печкой на железке и, как ни старался сдержаться, с прорвавшейся неприязнью проговорил:
— Отвратительно шкурки пялить на себя! Пустоглаза, обснята, кишка кишкой, а ее на шею! Е-ка-лэ-мэ-нэ! — и притормозился — устал, конечно, извелся, но он-то мужик, а тут человек нездоровый, притосливый, брезгливый, стало быть, не в себе человек, из города, из Москвы самой. Он-то ко всему привычный, лесной-тундряной, не женатый, холостой, и, смиряя себя, миролюбиво продолжал: — Охотник пушнину ради хлеба добывает — сам мехов не носит. — И, вспомнив, как друг его верный Колька зверовал на Дудыпте, добавил еще: — Не до мехов! Может такой сезон выпасти — без штанов останесся…
— Все у вас тут шиворот-навыворот!
— Может, это у вас там выворот-нашиворот…
— У кого это у нас?
— У тебя, скажем!
— Не обобщай! — Эля всхлипнула. — Бродишь по лесу, черт те где рыскаешь за этими зверьками. Я одна, одна… так жутко, так жутко! Не ходи, пожалуйста, не ходи, а?..
«Не понимает. Привыкла, чтоб все готовое. Для нее все само собой растет и добывается», — с огорчением думал Аким, выходя к ловушкам после того, как Эля засыпала.
Однажды долго выправлял соболий след, попал в снежный заряд, скололся с лыжни, заблудился и добрался до избушки еле жив, в брякающей льдом одежде перевалился через порог, грохая обувью, на карачках пополз к печке. Эля дала ему кипятку, спирту из флакончика, помогала раздеваться, но сил ее не хватало разломить, стянуть с него одежду. Она в голос выла, ломая ногти, дергала с охотника валенки.
— Ты что, тонул? — спрашивала, кричала она, а он смотрел на нее перевернуто, непонимающе и валился с ног, засыпал. Она колотила его, трясла, умоляла: — Не спи, простынешь! Не спи! Не спи! Не спи-и-и! — И как-то все же раздела его, растерла спиртом, затащила на нары.
— Топи печку, пока есть сила! — дребезжал он голосом, трясясь под тюком одежды и засыпая, заснув уже, успел еще повторить: — Топи! Топи! Иначе…
До нее дошло наконец: если с Акимом что случится — и ей хана. Шарахаясь от печки к нарам — пощупать, жив ли хозяин, Эля напарила ягодного сиропа, суп сварганила из птичины, а когда обессилела, легла рядом, прижалась к охотнику, стараясь согреть его своим слабым теплом. Горячий, разметавшийся, он ничего не чувствовал и, проспавши остаток дня и долгую-долгую ночь, поднялся как «огурсик», зубы только ныли, правая щека припухла, и он изжевал две таблетки анальгина.
Не чуя под собой ног, Эля суетилась в прибранной избушке, принесла котелок с печи, поставила солонку, положила по сухарю себе и хозяину.
— Ешь! — пригласила она и первая хлебнула из котелка. Аким не сразу отозвался на пригласье, зачем-то понюхал в котелке, скосил на нее слезящиеся глаза — все же простужен, хоть и уверяет, будто он как «огурсик».
— От, ё-ка-лэ-мэ-нэ! Нужда — наука проста, но верна, любого недотепу, филона наверх овчиной вывернет!
— Ешь давай! Ешь больше, болтай меньше, толстый будешь!
Аким вытаращил глаза: ну и память у человека! Она слышала эти слова, когда у нее и башка-то не держалась, падала, как у рахитного младенца, а поди ж ты — запомнила!
После того случая в тайгу на ночь глядя он не ходил, проверял ловушки, тропил соболя по свету, и сердце его обливалось кровью — густ был соболиный нарыск оттого ли, что давно на Эндэ никто не зверовал, тронула ли бескормица от северной кромки зверье туда, где урожай ореха, где скапливалась белка, птица, мышь и всякая другая кормная живность. Поредел рябчик на Эндэ, осторожней сделалась белка, прибавлялось нарыску, шире кружил соболь, реже становился сбег следов, но чаще встречались места схваток — оседлый соболь отстаивал свои владения, изгонял с них ходового соболя. Побеждал сильнейший.
Но вот приспела новая неизбежная беда: следом за белкой, соболем, колонком и горностаем двинулись песец, волк, росомаха. Припоздав к ловушкам, охотник находил в спущенных капканах лапку или шерстку соболя. Следовало в погодье чаще обходить ловушки, строить кулемы и пасти на песцов, травить волка, росомаху. Почти не спят охотники такой порою, ловят, промышляют, работают — схлынет зверь, минет урожайное время, хоть заспись.
Аким скрипел зубами, ругался, чуть ли не выл, видя, как уплывает от него удача. Торопился приделать домашние делишки — кухонные хлопоты отымали столько времени! Выскакивал в лес на часок-другой, носился на лыжах невдалеке от стана, топтался вокруг десятка капкашок. Смазанные, новые, добрые капканы висели на вышке, кулемы и слопцы он настораживать перестал — выедает из них зверька и глухаря росомаха, до того обнаглела, к избушке подобралась, поцарапала Розку. За ней, за росомахой-разбойницей, гонялся в погибельную ночь Аким, стрелял, вроде бы ранил, пыху не хватило достать, добить. Рожень бы на нее, на подлую, изладить — видел как-то в тайге, на Сыме, простую с виду, но хитрую ловушку Аким — «русамага» лезет на рожень, снимает приправу с острия, и где так хитра, а тут толку нет спрыгнуть, ползет по глади рожна задом и вздевается рылом на заостренный конец.
Чем дальше в зиму, тем больше тропился песец, значит, снова, как в том году, когда Колька шарашился по Таймыру возле речки Дудыпты — в тундре мор лемминга, голод стронул оттудова зверька. Снег еще неглубок, зима не жмет особо, морозы ухнут позже разом, видать, завернет землю в белый калач, держись тогда. А пока больше верховая, редкая здесь об эту пору погода, озолотеть можно в такой сезон, но… На вот тебе, расхлебывай Гоги Герцева грехи! Договорились стреляться, так он и тут исхитрился, выбрал месть потяжельше, подбросил свое имущество в зимовье, да еще и с прицепом…