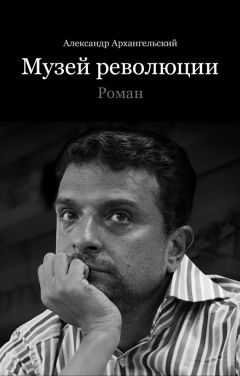Через месяц после первого допроса затрапезный следователь появился снова. Но говорил не про аварию, а про художников. Точней, «о членах радикально настроенной группы художественной интеллигенции». Рассказал о подпиленной церкви, о Вершигоре, который стал неизлечимым инвалидом; начал задавать унылые вопросы. Где познакомились, когда, при каких обстоятельствах вошли в контакт…
— В какой контакт?
Клочковатый дознаватель растерялся и вспотел.
— Не знаю даже. В общем, главное, где и когда.
— А с ними-то что?
— Ничего особенного. Один получил травмы, несовместимые с жизнью, еще двое в бегах.
И чем дольше мямлил следователь, пахнущий чиновным потом и универсамовским дезодорантом, тем яснее становилось Павлу, что решение уже готово, и обвинить во всем намерены Печонова, еще в июне улетевшего в Узбекистан.
— Общался ли Семён Васильевич Печонов с членами указанной группы?
— Да все мы с ними общались, веселые ребята, безобидные.
— Но лично Печонов общался?
— Я же говорю, они жили на территории Приютина.
— То есть конкретно общался?
— Я не видел.
— Но вы же говорили только что — все общались.
— Слушайте, но это бред какой-то. Вы что, всерьез считаете, что Сёма мог устроить это безобразие? Он мухи не обидит.
— Про мух я ничего не знаю, но ваших кошек он обидел. Отравил. — Следователь осклабился, в нем даже проявилось что-то человеческое. — Значит, я записываю — «не общался»?
— Погодите, как он кошек отравил? Их же отравили в отместку Шомеру? Строители?
— И насчет строителей не знаю, а вот несколько мигрантов из Республики Киргизия, проживавших на территории музея без регистрации, показали, что Семён Васильевич Печонов подкладывал животным яд. В-первых, мы располагаем данными о том, что у него имеется аллергия, средней степени тяжести, инфекционно-аллергическая...
— Безумие какое-то. Я поверить не могу.
— … а во-вторых, есть основания подозревать его в получении денег от конкурентов бывшего директора, гражданина Шомера.
— Каких конкурентов, вы что?!
— Тех, которые копали котлован. Мы для того и работаем, чтобы все узнать. Итак, возвращаюсь к вопросам…
4А на излете этого же дня к Саларьеву явилась депутация.
Цыплакова с напряженным, как бы перекрученным лицом; в руках — огромный целлофановый пакет. Молодой мужчина, крупный, в теле, неуклонно начинающий лысеть — странным образом ему знакомый. И усадебный отец Борис, одетый не вполне привычно, без большого иерейского креста, но с круглой богородичной иконой, на спине болтается отросток медной цепи, до неприличия похожий на оборванный металлический поводок.
Цыплакова вынула два яблока, три апельсина и банан, издалека продемонстрировала Павлу (так малышу показывают куклу, которую он должен заслужить хорошим поведением), выложила на тарелку и отставила на подоконник. После чего, жестоко улыбаясь, сложила вчетверо пакет и спрятала в женскую сумочку:
— А пакет нам еще пригодится… Подкрепитесь, Павел Савельич… потом. Вам очень нужны витамины. Вам предстоит большая и серьезная работа. Что же вы так долго поправляетесь? Неужели нельзя побыстрее?
— Как ваше здоровье, Павел Савельевич? — поспешил исправить неловкость священник. — Ничего? ну, слава Богу. А это, познакомьтесь, Константин Федорович Цыплаков…
— Сынуля, — с гордостью добавила Анна Аркадьевна и с приторной галантностью продолжила: — Козя в Питер ненадолго, мы от вас выезжаем в Приютино, вы не будете возражать против того, что мы вместе?
Павел вежливо кивнул, стараясь не глядеть на Константина; поняв, кого ему напоминает этот рослый «Козя», чьи крупногабаритные черты проступают на его лице, Саларьев испытал подобие неловкости. Вся история несостоявшейся семейной жизни Теодора была анатомически обнажена, и он впервые в жизни понял Цыплакову, которая при всех ее амбициях соглашалась быть усадебным хранителем — лишь бы состоять при Шомере.
— Я не против. И — спасибо, батюшка.
— Совсем уже теперь не батюшка! Выше поднимай — владыка. Долгородский епископ Борис, — строго поправила Цыплакова. — Усадебного батюшку нам с вами еще предстоит поискать.
— Поискать? Нам с вами?
— Именно, Павел. Нам с вами.
И Цыплакова объявила Павлу, что Приютино опять поставили на тендер, со всеми прилегающими землями: государство, разоренное войной, беспощадно сбрасывало обязательства. Каждый день в Приютино являлись претенденты: водочные короли, московские военные. Больше всех давала та неприятная дамочка, которая давно, еще при пошатнувшемся Хозяине, приобрела Мелиссу, выгнала старого алкоголика Иванцова и самолично, несмотря на глубокую беременность, следила за вырубкой леса и строительством теннисных кортов. Когда настал раздрай, работы были остановлены, но как только буря поутихла, дама снова ринулась в атаку. Возобновила стройку, стала коршуном кружиться над Приютиным; лучше бы ребенком занималась, бизнес-леди. И все-таки усадьбу приобрел небезызвестный Ройтман; с ним дамочка тягаться не смогла. Он подарил имение на свадьбу дочери — и это незаслуженное счастье, потому что Алла хочет сохранить музей, при условии, что государство обеспечит фонд зарплаты, а директором станет Саларьев.
— Откуда она вас знает? Вы что же, с ней роман крутили? И зачем вы бросили жену? А? у вас была такая прекрасная жена!
— А это, Анна Аркадьевна, не ваше дело. Вот вы начали говорить про музей — и продолжайте.
Как только долгородское начальство разыскало Цыплакову и объявило об условии, поставленном владелицей усадебных земель, Анна Аркадьевна направилась к епископу Борису, и вот они уже в больнице, и она заранее готова снова стать хранителем, тем более, владыка обещал во всем поддержку.
Епископ набрал побольше воздуху, но так и не решился возразить, а Павел внутренне похолодел. И согласился.
5Он шел по изморсканному воробьями снегу, вдоль ограды из сплетенных металлических колечек, за которой страусы с доисторическим опасным взглядом изгибали гуттаперчивые шеи и цапали большими клювами забор; мимо конюшни и выезда с чистенькими породистыми лошадями; конюший разгребал лопатой неприличный дымящийся силос и уговаривал начальство прокатиться перед сном: «лошадь, она, Павел Савельевич, умная, сегодня ехать можно, сегодня твердая дорога, а вот завтра она не поедет, скажет нееет, не просите, оступлюсь, провалюсь, не дойду».
Он вышел за калитку, обогнул театр; между усадебным забором и старым помещичьим лесом по его распоряжению была расчищена площадка, что-то вроде сцены под открытым небом. Площадку ночью освещают серо-желтые прожектора; здесь под землю заведен тепличный кабель, и на жирной дышащей почве сверкает жесткая трава. Разумеется, затея дорогая, но Алла Ройтман сговорилась с энергетиками и бросила проводку мимо счетчика; чем за это пришлось расплатиться, она признаваться не хочет — сразу начинает хохотать, «много будешь знать, скоро состаришься».
К маю здесь появится голографический музей. Он давно его придумал — сообразив, как совместить усадебную хронику с расстрельной съемкой дяди Коли. Тем более, что «Предков. Ру» не будет: сначала Павел угодил в аварию, потом арестовали Юлика и продержали в КПЗ три месяца; за это время божик увлекся другими проектами и перебросил Шачнева на них.
Идея прорывная, в хорошем смысле революционная. Над площадкой проявляется рисунок. Расфокусированный, смутный. Экскурсанты вздрагивают, затихают. В воздухе колеблется Приютино — на излете Девятнадцатого Века. Беззаботно курит Мещеринов-Последний. На дорожках первые автомобили. Потом картинка расплывается и снова сжимается в образ — перед ними санаторий, Крещинер, венерики, кошки. А вот образуется ров, на краю которого стоит приговоренный. Напротив — рослый офицер, тот самый, в длинном фартуке, с наганом. Светопись густеет, наливается объемом, но рисунок все еще нечеткий. Контуры смещаются, картинка движется. Вскинута тяжелая рука, раздается ослепительная вспышка, и того, что было человеком, больше нет. Еще вспышка, еще; а затем картинка распыляется и происходит неожиданная смена экспозиции. Перед глазами экскурсантов — следующая сценка. У сторожки тормозит закрытый грузовик; с грохотом отваливается крышка, охранники прикладами выпихивают вялых людей, потерявших всякую способность действовать. Но вот машина тает в воздухе, и мы уже внутри сторожки. С каждой сменой декораций контуры отчетливей, острее. За столом сидит военный писарь; к стене прибита продранная простыня; бородатенький фотограф в тюбетейке склоняется над маленькой зеркальной «лейкой». Перед камерой приговоренный, в нижней рубахе, кальсонах. Все ждут короткой магниевой вспышки, но фотограф, скрывшийся под черным покрывалом, тянет время. Покрывало вдруг становится прозрачным, и мы видим, что он тихо крестит обреченных… А дальше время поворачивает вспять, мы снова погружаемся в историю усадьбы, от санатория до Первой мировой, и от Первой мировой до основания Приютина.