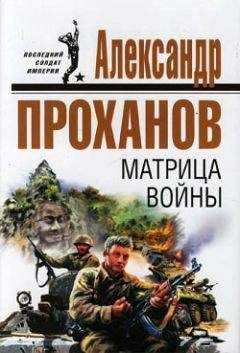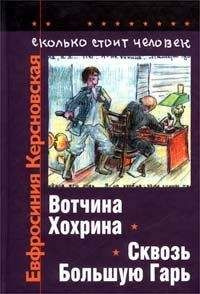– Ты очень хороший, добрый, – сказала она. – Я мучила тебя, причиняла тебе страдания. Прости! Я сказала, что разломала ракушку, когда ты плавал в реке. Это не так. Я тебя обманула. Ракушка цела. Лежит на берегу в тайнике. Мы поедем и ее найдем.
– Люблю тебя, – сказал он. – Ты моя звезда лучистая.
– Осень близко. Холодно. Ты не мерзнешь? Свяжу тебе теплый шарф.
Она положила голову ему на плечо. Он замер, чувствуя запах ее волос, исходящее от них тепло. Утки плавали под дождем по темной воде, тихо крякали. Он верил, что самое больное и тяжелое в их отношениях миновало и теперь, после ослепительного счастья и ошеломляющей беды, их ждет ровная, благодатная жизнь. Как аллея, заслоняющая от постороннего мира, уводящая в светлую бесконечность.
Ночь. Омытая дождем, пустая, черно-зеркальная Тверская. Ягода светофора, под которой из невидимого кувшина разливают красный, желтый, зеленый сироп. Редкие, водянистые шары света, пролетающие по шелестящему асфальту. Одинокая «Скорая помощь» с сиреной разбрасывает фиолетовые шальные вспышки. Он за столом, под ярким светом настольной лампы расправляет бабочек.
Он не мог объяснить, когда в нем зародилась эта таинственная страсть и охота. Как совпала с его военной профессией, с его жизненной задачей и целью. Он был «охотник в островах», бегущий с сачком – по зеленым лесам и долинам, с автоматом, – по воюющим континентам. Свою первую коллекцию он собрал еще в школе. Она состояла из наивных, пойманных на даче белянок, зеленовато-белых капустниц, из пестрых милых крапивниц, среди которых, как драгоценность, красовался павлиний глаз. Эту коллекцию, размещенную в картонной коробке, он оставил в школе, в живом уголке. Вторая коллекция была составлена из дальневосточных махаонов, из крымских парусников, из алтайских аполлонов и кавказских переливниц и ленточниц. Он подарил ее невесте, которая так и не стала женой. Сам развешивал лакированные коробки над изголовьем ее кровати, в ее уютной маленькой комнате, из которой скоро ушел навсегда, в другую, ей недоступную жизнь. Третья коллекция, собранная по земному шару, где протекало его кругосветное, растянутое на много лет путешествие, была развешена по стенам его кабинета. Четвертую, последнюю в жизни, он составлял сейчас, чтобы подарить ее Даше.
Его любовь к бабочкам, его нежность, любование, почти религиозное к ним отношение таилось в глубинах подсознания. Было проявлением тайного язычества, сокровенного пантеизма, которые превращали бабочку в божество, обитавшее на лесных опушках, в кустистых зарослях и цветущих лугах. Он выбирал для поклонения не облако, не дерево, не поющую птицу или скачущую белку, а бабочку. Отыскивал ее в тяжелой листве дуба, в болотной осоке, в солнечном разнотравье. Крохотный божок управлял его чувствами, волей и разумом. Ему казалось, что бабочка – его тотемный зверь. Пращур, от которого повелась его родословная. Напоминала о себе в молитвенном отношении к бабочке.
Он расправлял бабочек, тонко орудуя пинцетом, голубоватыми стальными булавками, потеряв счет ночным часам. Дыхание его касалось драгоценных пластин, они оживали, пульсировали, источали сияющую стоцветную радиацию. Божок оживал, и Белосельцев вел с ним безмолвный разговор.
К утру множество расправилок стояло у него на столе, и каждая бабочка напоминала драгоценную цветастую буквицу в летописи его жизни.
К вечеру он поехал к Даше. Она встретила его в комнате для гостей, досадуя на его опоздание:
– Почему так поздно? Жду тебя с самого обеда.
– Всю ночь провел за рабочим столом. К утру заснул. Поздно встал.
– Начал книгу писать? Воспоминания?
– Почти угадала. Летопись с цветными буквицами. Воспоминания о прожитой жизни.
– Покатай меня на машине.
Она сказала это требовательно, нетерпеливо, словно вынашивала это желание. И теперь, когда он пришел, торопилась его высказать.
– Куда поедем?
– Куда-нибудь за город. По темной дороге. В ночь.
Они катили по вечернему, с гаснущим небом городу, среди огней, текущей по тротуарам толпы, загоравшихся реклам и вывесок. Достигли Кольцевой дороги, по которой, как по кольцу Сатурна, неслась размытая плазма. Вырвались на простор, в черные ветреные предместья, навстречу слепящим лучистым вспышкам.
Она протянула руку, пробралась ему под куртку, расстегнула на его рубашке пуговицу, прижала ладонь к его голой груди. Он вел машину, чувствуя у себя на сердце ее прохладные пальцы, боясь повернуть к ней лицо.
– Давай где-нибудь встанем. В каком-нибудь укромном месте.
Он увидел знак перекрестка. Свернул на узкий, уходящий в поля проселок. Остановился на обочине.
Она прижалась к нему. Он осторожно просунул ладонь под копну ее волос, к теплому затылку. Приблизил губы к ее шее, целуя нежную дрожащую жилку у ее ворота. Но из полей по проселку, ярко светя фарами, выкатил автобус, озарил их, сидящих в машине, медленно покатил к шоссе.
– Они здесь будут ездить, светить. Поедем куда-нибудь дальше, – сказала она.
Они снова мчались по шоссе, и он заметил съезд с дороги к темной соседней роще. Осторожно, расплескивая лужи, проехал по мягкой земле. Поставил машину у кустов. Обнял ее, прижал к себе. Но вблизи, громко разговаривая, показались люди. Прошли мимо, краснея огоньками сигарет. Засмеялись, увидев их в машине.
– Куда-нибудь дальше, – сказала она. – Нас гоняют, как птиц, которые собираются вить гнездо. Найди какое-нибудь тихое место.
Они отъехали от Москвы еще дальше, в пустые пространства, где, размытые сырым ветром, как тлеющие по сторонам костры, тянулись селения и пригороды. Съехали на бетонку. Катили в черной пустоте, а потом свернули на болотистую пустошь, где топорщились груды прелой земли, вспыхивали перед фарами ломаные дудники, расходились в разные стороны мягкие, наполненные водой колеи. Отыскали глухую, укрытую кустами нишу. Он вогнал в сплетение ветвей машину, погасил огни.
Они сидели в тишине, слушая, как в машине что-то слабо звенит, остывая.
– Сегодня я беседовала с врачом, – сказала Даша. – Он сказал, что я выздоровела. Я и сама чувствую.
– Ты выздоровела. И теперь нам самое время отправиться в какое-нибудь путешествие. В погоню за летом. На море, к теплу.
– Да, в путешествие, в погоню, – повторила она.
– Но до этого мы справим твое рождение. Я уже стол готовлю, всякие вкусности покупаю. Бутылку кахетинского, того, что мы пили с тобой. И готовлю тебе подарок.
– Какой?
– Сюрприз.
Она повернулась к нему в темноте. Приблизила лицо, чтобы лучше рассмотреть ночным зрением, близкими, блестящими глазами. Обняла, притянула к себе.
– Я так тебе благодарна. Так дорожу тобой. Поцелуй меня.
Сама быстро, сильно прижалась к нему. Поцеловала жадно, страстно, делая ему больно, не отпуская его губ, словно вдыхала в него какую-то долгую жаркую силу, передавала невысказанное, невыразимое в словах послание, желая, чтобы оно сохранилось в нем навсегда.
– Ты моя милая… Ненаглядная… Звезда моя лучистая… Так тебя люблю… – говорил он, обнимая ее, целуя ей глаза, виски, шею, сквозь теплые прогалы платья пробираясь губами к ее груди, к горячим плотным соскам.
– Я разденусь, – сказала она.
Он вращал пластмассовое колесо, опуская назад сиденье. Она раздевалась, осторожно складывая свои одеяния. Лежала рядом с ним, белая, длинная, едва освещенная сквозь туманные темные стекла. Он наклонялся над ней, закрывал глаза, видел ее не зрачками, а всей своей жаркой страстной силой, лбом, грудью, дыханием. Своей мучительной мечтой, сокровенной надеждой на счастливое бытие, на рождение ребенка, на их бесконечное будущее. Продлевал себя в ней, проникал в ее глубины, завершаясь в ней, пропадая. Превращаясь в слепящее ничто, которое она улавливала, претворяла в себя, распускала в своей горячей плоти, окружала своим сотворяющим духом, хранила в себе, как огненную живую почку.
Они лежали без сил на откинутых сиденьях. И он слышал, как в ночи, высоко над ними, пролетел самолет.
Он отвез ее в клинику. Обещая через день приехать за ней, повезти к себе. Смотрел, как она исчезает в темном подъезде больницы.
Ночь. Москва в синих туманных далях. Звезды Кремля, как прилетевшие из мироздания кометы, вставшие над Москвой, распустившие свои размытые багровые хвосты. Белосельцев снимал с расправилок бабочек, накалывал их в коробку.
Он освобождал бабочек от бумажных бинтов, как от облачений, пропитанных бальзамами и смолами. Оживленные, бабочки слабо вздрагивали, отделяли от липы свои тончайшие сияющие перепонки. Белосельцев переносил их в коробку, помещал среди белизны и стекла. Он накалывал их не так, как это делают энтомологи, оставляя между экземплярами свободное пространство. А тесно, крыло к крылу, чтобы почти был не виден белый фон, а создавался сплошной покров. И тогда возникал цветовой удар невиданной силы, цепенящий, парализующий, порождающий галлюцинации. И можно было сидеть перед волшебной коробкой часами и днями, без воды и без пищи, поглощая разноцветные энергии, улетая в иные миры.