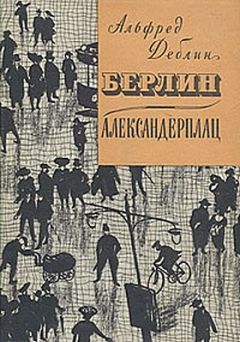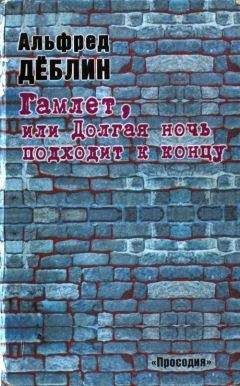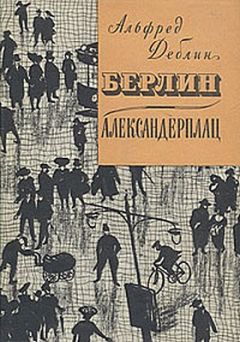Смотрят Ева и Мицци друг на друга. Ева снова подзуживает:
— Тебе придется теперь глядеть в оба!
— Да что ж мне делать? — канючит Мицци.
— Твой кавалер, сама должна знать, что делать!
— А если я не знаю?
— Только не реви, пожалуйста. А Герберт сияет.
— Парень в порядке, — будьте уверены, и я очень рад, что он наконец всерьез принялся за дело. Он уж наверно все обдумал — ведь это стреляный воробей!
— Ах, боже мой, Ева…
— Ну, полно реветь, сказано, не реветь, слышишь? Я тоже за ним присмотрю.
Сказала, а сама думает: "Нет, не стоишь ты Франца. Куда тебе? Ну, чего нюни распустила? Вот дуреха, индюшка! Так бы и закатила ей пару плюх!"
* * *
Трубы! Фанфары! Бой в разгаре, полки наступают, трара, трари, трара, тут и артиллерия, тут и кавалерия, на земле пехота, в небе — самолеты, трари, трара, вперед на врага! Наполеон в таких случаях говаривал: "Вперед, вперед, на вражий стан! Дождь прошел — ползет туман. Рассветет — возьмем Милан! Ордена вас ждут, ребята, лучше всех — судьба солдата! Трари, трара, трари, трара".
На сей раз Мицци не пришлось долго реветь и ломать себе голову над тем, что ей делать. Все само собой образовалось.
Рейнхольд заскучал, места себе не находит. То у себя сидит, то у своей шикарной подруги, то в магазин наведается, где Пумс товар сбывает. А делать-то все нечего, — вот он и стал умом раскидывать. Деньги и отдых ему не впрок, такой уж он. Как заведутся у него деньги, — так и заскучает! Пить он тоже не мастак. Лучше уж сидеть в пивной, ходить волоча ноги к стойке за кофе да обделывать разные делишки. Сидит он, слушает, что кругом говорят, и зло его берет. Куда теперь ни придешь, к Пумсу ли, или в другое место, — всюду торчит Франц, остолоп этот, скотина однорукая; корчит из себя важного барина. Видно, мало ему досталось; святошей прикидывается, словно и мухи не обидит! Чего-то он от меня хочет, стервец! Это как дважды два четыре! Веселый ходит, довольный — житья от него не стало; только займешься чем-нибудь, а он уж тут как тут. Пора за него взяться. Пора!
Ну, а что же делает Франц? Кто, Франц? Да что ж ему делать? Гуляет себе по белу свету, поглядишь на него — само спокойствие, сама безмятежность. Что с ним ни случится — с него как с гуся вода. Бывают же такие люди, не так уж часто они встречаются, но бывают.
Вот, к примеру, близ Потсдама жил такой человек. Его потом "живым трупом" прозвали. Некто Борнеман. Ну и номер он выкинул. Изъяли его из оборота, он и отсиживал свои пятнадцать годков в каторжной тюрьме. Сидел, сидел, а потом сбежал. Впрочем, виноват, он не из Потсдама был, а из Анклама — есть под Анкламом такое местечко Горке. Да, а сидел он в Нойгарде. Ну вот, идет он к себе домой, дошел до берега Шпрее, смотрит — утопленник плывет… Вот Нойгард, то бишь Борнеман из Нойгарда, и говорит себе: "Я ведь в сущности-то умер для мира". Забрал бумаги утопленника, а ему подсунул свои; так вот и стал мертвецом на законном основании. Узнала жена про его смерть и говорит: "Что же тут делать? Бог дал — бог и взял, умер человек, и дело с концом, и слава богу, что это мой муж, а не другой кто! Невелика потеря! Все равно сидел он полжизни, так что туда ему и дорога". Но наш Борнеман — Отто его звали — вовсе не умер. Притопал он в Анклам и решил, что надо ему при воде оставаться. Он и раньше воду любил. Вот и стал там рыбой торговать. Торгует он рыбой и зовется теперь Финке. А Борнеман приказал долго жить. Но сцапать его все-таки сцапали! А почему и каким образом, это вы сейчас услышите, только смотрите со стула не свалитесь.
И надо же было случиться, чтоб его падчерица нанялась прислугой в Анклам, вы только подумайте, свет так велик, а ее угораздило приехать именно в Анклам, и вот встречает она тут воскресшего рыбника, — а тот уже здесь который год живет, про Нойгард и не вспоминает. А девчонка тем временем выросла и выпорхнула из гнезда. Он ее, натурально, не узнал, но зато она его — в один момент. И говорит ему:
— Здравствуйте. Скажите, пожалуйста, вы не папа наш будете?
А он:
— Что ты, рехнулась?
И так как она ему не поверила, кликнул он жену и пятерых (читай: пя-те-рых) детей, те в один голос подтвердили, что он, мол, Финке, торговец рыбой. Ну да, Отто Финке, вся деревня его знает. Финке — он и есть Финке, это каждый знает, а Борнеман давным-давно помер.
И ведь ничего он худого девчонке не сделал, а она от него не отстала. Девичья душа — потемки! Ушла она, но мысль об отчиме крепко засела у нее в голове. И вот она взяла и написала в Берлин в уголовную полицию: "Я несколько раз покупала рыбу у господина Финке, но как я его падчерица, то он не считает себя моим отцом и обманывает мою мать, потому что у него пятеро детей от другой". Плохо все это кончилось: имена свои эти дети, положим, сохранили, но с фамилией у них дело вышло дрянь. Фамилия их оказалась вдруг Хундт да еще через "дт", такая уж была девичья фамилия их матери; а сами они все поголовно попали в незаконные дети; про таких в Гражданском кодексе сказано: "Внебрачный ребенок и его отец считаются не состоящими в родстве".
Вот и наш Франц точь-в-точь, как этот Финке. Живет — и в ус не дует. Само спокойствие. Напал на него как-то зверь лютый и руку ему отгрыз; да только он зверя того укротил, и зверь теперь не ест, не пьет, рычит да на брюхе ползает. И никто из дружков Франца не видит, как он того зверя укротил. Один только человек об этом знает, да помалкивает. Шагает Франц твердо и головушку свою бесталанную носит гордо. Живет он по-своему, другим не чета, да совесть у него чиста. А вот человек, которому он уж и вовсе ничего плохого не сделал, только и думает: "Что ему надо? Что ему от меня надо?" Этот человек видит все, чего другие не видят, и все понимает! Казалось бы, что ему до Франца? Ноги у Франца крепкие, затылок бычий? Сон здоровый? — Ну и пусть себе! Так нет же! Раздражает его все это, покою ему не дает! Он Францу этого не спустит! Что же будет? Что?
Вот так порыв ветра распахнет ворота, и вырвется из загона испуганное стадо… А надоест льву назойливая муха, — прихлопнет он ее лапой да как зарычит!
Повернет надзиратель ключ в замке, и выйдет на волю толпа преступников — насильников, взломщиков, воров и убийц…
Целыми днями расхаживает Рейнхольд взад вперед у себя в комнате или сидит в пивной у Пренцлауертор и все думает и так прикидывает и этак… И вот в один прекрасный день, узнав о том, что Франц отправился вместе с жестянщиком присматривать очередное дело, Рейнхольд пошел к Мицци. Эх, была не была!
А та его до сих пор и в глаза не видела. Смотреть-то вроде не на что, но ведь как посмотреть, верно, Мицци? Он недурен собою, сумрачный только, вялый, желтый, больной наверное, а так — недурен!
Да ты посмотри на него как следует, дай ему ручку и вглядись повнимательнее в его лицо. Это лицо, Мицекен, для тебя больше значит, чем все лица, какие есть на свете, и Ева и даже твой милый Франц — для тебя теперь не так важны. И вот этот человек поднимается к тебе по лестнице. День сегодня самый обыкновенный, четверг, 3 сентября, ну погляди же, неужели ты ничего не подозреваешь, не знаешь, не предчувствуешь свою судьбу?
Какова же твоя судьба, крошка Мицци из Бернау? Ты молода, зарабатываешь деньги и любишь своего Франца. Вот потому-то поднялась к тебе по лестнице и встала перед тобой и пожимает твою ручку Францева судьба, отныне она и твоя судьба. Впрочем, лицо этого человека не стоит особенно разглядывать — посмотри лучше на его руки. А что? Ничего особенного; руки как руки — в серых кожаных перчатках.
На Рейнхольде — его лучший костюм, Мицци сначала растерялась — не знает, как себя держать с гостем, уж не Франц ли его подослал, на пушку ее берет! Нет, не может быть! А тут он и сам сказал, чтобы она Францу не говорила о его визите — Франц ведь такой мнительный. Ему, Рейнхольду, необходимо поговорить с ней кое о чем. Дело в том, что с Францем, собственно, трудно работать, как-никак у него только одна рука! Да и зачем ему вообще работать, это ребята никак в толк не возьмут. Ну, тут Мицци смекнула, куда он гнет, и вспомнила, что говорил Герберт о намерениях Франца.
— Нет, — отвечает она, — зарабатывать деньги, если на то пошло, ему не так уж нужно, потому что есть люди, которые ему всегда помогут. Но ему-то этого мало, он ведь мужчина и без дела не хочет сидеть.
— Верно, — говорит Рейнхольд, — верно! Пусть работает. Но только работа-то наша не простая, тут иной и с двумя руками не справится.
Ну, поговорили они о том о сем. Бедняжка Мицци никак не поймет, что ему нужно. Наконец Рейнхольд попросил ее налить ему рюмку коньяку. Он, дескать, хотел только справиться о материальном положении Франца, — если дело обстоит так, как Мицци говорит, то, разумеется, он сам и его коллеги всячески пойдут Францу навстречу. Выпил тут Рейнхольд рюмочку, налил вторую и спрашивает:
— Вы меня, собственно, уже знаете, фрейлейн, не так ли? Разве Франц вам про меня ничего не рассказывал?