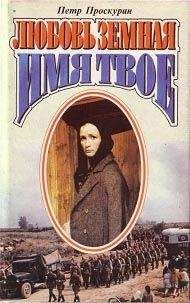И еще чуднее, что инок Пересвет будет помнить и то, как его тело положат в дубовую колоду, так же, как и тело убиенного его друга инока Андрея Осляби, и как их повезут долгой дорогой в Москву и захоронят в Симоновской обители, и как сам святой Сергий при несметном стечении народа московского будет служить по ним панихиду… Все это будет знать и слышать Пересвет, и только потом память его угаснет.
* * *
Работы по спасению обнаруженных в церковных подземельях сокровищ на Крепостном холме закончились, и были составлены тщательные описи обнаруженного; с неподвижным и отрешенным лицом слушая объяснения полнокровного, широкоплечего Лутакова, председателя Холмского горисполкома, Петров думал, что тот, появляясь где-нибудь, обладал редкой способностью сразу заполнять собой и своим голосом все помещение и даже близлежащие коридоры, но вот сегодня он словно уменьшился в размере и говорил необычно тихо.
— Конечно, ужасная ошибка, Константин Леонтьевич, — разводил Лутаков руками, беспокойно пытаясь поймать взгляд Петрова. — Под землей ничего не видно… что делать… Притом горсовет вынес решение замостить площадь Коммунаров для проведения революционных праздников… Что вы? Что с нами, Константин Леонтьевич?
— Прошу вас сюда, — сказал Петров, быстро подходя к боковому столику и сдергивая с него газету, прикрывавшую какой-то небольшой плоский предмет.
— Икона, — удивленно пожал плечами Лутаков и опять поднял глаза на Петрова.
— Сколько это, по-вашему, стоит? — спросил Петров, невольно любуясь необычайно тонкой работы золотым окладом, почти сплошь усеянным крупным, неокатанным жемчугом, с тремя влажно мерцающими, больше грецкого ореха, сапфирами в венце.
— Откуда это у вас? — осторожно поинтересовался Лутаков, выигрывая время для ответа.
— Это? Комсомольцы недавно натолкнулись недалеко от Холмска в Горохове… Идет девочка, несет икону. Объясняет, что какой-то дедушка отдал, наказал передать матери, а сам в поле лежать остался… Дедушку не нашли, а икона — вот она…. — Петров опять осторожно накрыл икону газетой, вернулся к столу, сел. — Ну, так что же это, по-вашему?
— Наверное, дорогая штука, Константин Леонтьевич, — подал наконец голос Лутаков. — Если золото с камнями ободрать…
— Молчите, — словно наткнувшись на невидимое препятствие, торопливо приказал Петров. — Молчите, пожалуйста… Страшно не то, что вы можете сотворить, что вы сотворили по невежеству, не неведению, страшно то, что вы хотите свое невежество возвести в норму жизни. У вас надо отнять партбилет, Лутаков, в таких руках, как ваши, революция превращается в вандализм. Идите, идите, пожалуйста…
Никогда раньше ни Лутаков, ни другие не видели Петрова в таком тихом, упорном бешенстве, как в этот день, и сейчас, через два добрых десятка лет, Брюханов, сидя на шаткой, неровной скамейке и ожидая шофера, уехавшего заправиться в соседнюю МТС, перебирал в памяти все, что он узнал из тетрадей Петрова; вновь и вновь возвращаясь к чему-то самому сокровенному в себе, никак не мог нащупать ничего конкретного; невидяще глядя перед собой, он продолжал думать о Петрове, стараясь припомнить все самые мельчайшие подробности из общения с ним, ведь именно тот самый Лутаков все эти годы успешно продвигался по службе, был на виду, работал сейчас председателем Холмского облисполкома и считался одним из самых перспективных работников… В свое время Петров с не присущей ему жестокостью провел решение об исключении из партии и снятии с работы за вандализм, как он выразился, ряда работников Холмского горсовета, и даже, помнится, областная газета опубликовала это решение губкома партии. Но дело пошло в Москву, всех исключенных восстановили, разослали работать за пределы Холмской области, а у Петрова по этому поводу были крупные неприятности.
Все, о чем Брюханов узнал из тетрадок, оказывается, так или иначе уже было ему известно; непонятно, что же заставляло его сейчас испытывать такое сильное, глубокое волнение. Он попытался сосредоточиться. Столько шуму из-за церкви, подумал он пусть даже очень старой… И в чем такая уж вина Лутакова? Откуда ему, в самом деле, должно было быть все известно? Брюханов вспомнил, что совсем недавно, после того как из эвакуации вернулись и были экспонированы фонды Холмского исторического музея в отреставрированном здании, он в числе других был приглашен на открытие и видел эту икону Холмской Богоматери под специальным пуленепробиваемым стеклом и долго с интересом стоял перед нею. Вот тогда к нему и подошел Лутаков, и он искоса, с понятным любопытством взглянул на него.
— Нравится? — коротко спросил он, и Лутаков, помедлив, кивнул.
— Молоды мы когда-то были, — сказал Лутаков тихо. — Хотели горы перевернуть, а как это сделать, мало смыслили…
Брюханов не стал вдаваться в подробности; он был даже несколько недоволен, что Лутаков признавал свою вину, он подумал о том, что время и обстоятельства диктуют свои законы и что Лутаков тогда, возможно, оказался к жизни ближе, чем Петров. Потом он перечитал его письмо к самому себе и долго листал тетрадки. И опять в нем что-то восставало против; всегда ли знание является спасением против незнания, варварства, думал он беспокойно, ведь отжившее неумолимо сменяется, хорошие дороги и мощеная площадь оказались на какой-то момент нужнее старых церквей и графских особняков, и этого процесса ни Петров, ни пустынник Иероним, переживший свое время, вера в котором была сильнее разума, и никто третий остановить не могли, и при этом издержки неизбежны, но вот теперь, ожидая машину, он понимал, что с его стороны это были достаточно зыбкие логические построения, а он добивался и хотел только одного — подтверждения своей правоты. Разумеется, прав Петров; легче всего растоптать красоту, забросать грязью Пушкина и Достоевского, перестать тянуться к их духовной мощи, чтобы оттуда идти дальше, гораздо легче опуститься на много ступеней вниз, в невежество, в бездуховность жадных, здоровых варваров. И дело даже не в Петрове, не в пустыннике Иерониме и даже не в нем самом. Ему сейчас нужно было нащупать и укрепиться в одном: в полезности и необходимости того, что ему ежедневно, ежечасно приходилось делать. Прошедший день вновь протек перед ним, медленно, час за часом, от одной встречи к другой. Предчувствие истины коснулось его: ему казалось, что сейчас он лучше узнал, в чем лично его, Брюханова, общность со своим народом.
Свернув с неровной земляной, в глубоких выбоинах, дороги, осторожно подкатила машина, и Брюханов, бросив потухшую папиросу в ящик с песком, встал и направился к ней.
Ни Чубарев, ни Брюханов не знали точной причины их неожиданного и срочного вызова в Москву и были неразговорчивы; после чая, принесенного опрятной, улыбчивой проводницей, вскоре быстро уснули, и только утром, уже перед самой Москвой, Чубарев шумно вздохнул, заворочался.
— Не нравится мне эта гонка, — сказал он, хмурясь и поглядывая на чистенькие подмосковные платформы. — По всему видать, быть раздолбону, а, Тихон Иванович?
— Как обстоит с последним двигателем Шилова, Олег Максимович? С Муравьевым, как мне известно, у него непрерывные баталии шли…
— Вы думаете, в этом причина? Не-ет, мне кажется, что-то другое. Шилов улетел две недели назад довольный, доводка прошла успешно… очень успешно… Здесь срыва не может быть, за это я ручаюсь.
— Так, понятно… Собираться будем? — спросил Брюханов, прислушиваясь к мягкому перестуку колес.
— Можно, все равно не спится, пожалуй, солнышко вот-вот покажется. — Чубарев приподнял край занавески, выглянул в окно. — Так и есть, совсем рассвело.
Пока одевались, брились и умывались, они молчали, затем Чубарев опять с не свойственной ему озабоченностью посетовал, что, чует сердце, быть какой-нибудь неожиданности; Брюханов от этого рассмеялся.
— Поди угадай, быть не быть, — сказал он. — Лучше не думать, скоро узнаем.
— Мудро, мудро, Тихон Иванович… Ведь сказано: тьма и река времен, — изрек философски Чубарев и, шевеля губами, все пытался прочесть какое-то проносящееся мимо название станции, не смог и опустил занавеску.
— Не в первый раз, будем надеяться, что и не в последний, пора и привыкнуть. — Брюханов хотел добавить что-то еще, что-то примирительное, но промолчал, вспомнив нечто известное ему одному. Кто-то не раз уже отправлял на него, как любили выражаться доморощенные остряки, «телегу» в самые высокие инстанции, правда, многократно оглядываясь и понижая голос до шепота, доверху нагружая это полезнейшее и древнее сооружение всеми существующими и несуществующими грехами, а главное — нешутейной мыслью, что-де он, Брюханов, заигрывает с народом в «буржуазный либерализм» и посему область вот уже второй год не выполняет хлебопоставок. Рука, направляющая «телегу» за «телегой», была, без сомнения, опытная и расчетливая, и, видимо, очередное бумажное сооружение и без фактических колес достигло цели. Вспомнив лицо приезжавшего из Москвы товарища, его слова: «Ты, Тихон Иванович, присмотрелся бы, кто это тебя так горячо да нежно любит», Брюханов еще больше нахмурился, тем более что с месяц назад он сам направил в ЦК еще одну докладную записку, в которой веско, аргументированно, стараясь начисто вытравить всяческие эмоции, сообщал, что область не в силах выполнить план хлебозаготовок в этом году и что, полностью осознавая собственную ответственность перед партией на вверенном ему участке работы, он обязан информировать ЦК о реальном положении вещей и о необходимых, по его мнению, мерах. Никто об этой записке не знал, даже специалисты, готовившие ему данные, но пока никакого ответа он не получил, а если когда-либо получит, то результатов можно ждать любых, даже самых неожиданных. Тут он заметил, что мысль его вновь вторглась в запретную зону: а не связаны ли каким-нибудь образом и этот срочный вызов в Москву, и то, что он решился на довольно рискованную докладную в ЦК от своего имени, с бумагами покойного Петрова, а следовательно, хочешь ты этого или не хочешь, и с самим Сталиным; ведь в орбиту судьбы этого человека было втянуто, разумеется, по той или иной причине бесчисленное множество отдельных человеческих судеб, но одно дело — работать себе где-нибудь в отдалении на заводе или в колхозе, варить металл или сеять хлеб, подписывать коллективные благодарственные письма тому же Сталину и оставаться ему неизвестным, и совсем другое — оказаться вдруг непосредственно в сфере притяжения его личности, его характера, его замыслов, а может быть, даже капризов…