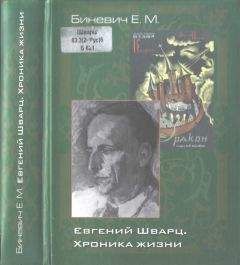Да, он вспомнил, но виду не подал. На её слова о матери, младшем лейтенанте Татьяне Гражданкиной, тоже не отреагировал никак. Так его учили ещё в Академии ЧК. Но в развитие темы спросил. Для разрядки…
— А кто был ваш отец? Это известно?
Ницца, снова впав в состояние апатии, ответила, не скрывая явного нежелания общаться и не удостаивая генерала взглядом:
— Если вам интересно, узнайте у своих коллег. Они про нашу жизнь гораздо больше знают, чем мы сами про себя. Больше мне добавить нечего.
«Интересно, чего она добивается? — подумал Чапайкин. — Чтоб пожурили за плохое поведение, предупредили на будущее и отпустили по малолетству? Или, наоборот, упекли — так, чтобы по всем „голосам“ заверещали?»
— Меня интересует вот что… — обратился он к ней, отбросив промежуточную лирику, — и от того, каким будет ответ на мой вопрос, в значительной степени зависит ваша дальнейшая судьба. — Она слушала молча, ожидая его дальнейших слов. — Так вот, хочу знать, кто вас надоумил сделать то, что вы сделали? Это первое. Второе. Как вы связаны с группой восьми демонстрантов, вышедших за день до вас, 25 августа на Красную площадь? Третье. Для чего вы совершили этот ваш неразумный поступок? Чтобы в результате добиться чего? И последнее. Пока — последнее. С какой целью ваш сожитель, работник научного института, гражданин Штерингас Всеволод Львович, сбежал на Запад, находясь в служебной командировке в городе Хельсинки? Что он туда вёз, какую информацию? Почему улетел именно в тот день, когда вы вышли со своим протестом? Чтобы успеть? Что успеть? Я не буду спрашивать, знали вы об этом или не знали. И так всё ясно. Но на чём тогда строился этот ваш взаимный расчёт? — он развёл руками. — Вот такие мои вопросы. Только отвечайте правдиво и по существу. А я постараюсь дать вам шанс, чтобы по возможности исправить эту скверную для вас ситуацию. Конечно, в том случае, если ваши ответы меня удовлетворят.
Ницца помолчала, собираясь с мыслями, и ответила, медленно расставляя слова:
— Первое. Надоумил меня это сделать тот, кто организовал бесчестное судилище над писателями Синявским и Даниэлем, а вдогонку сфабриковал «Процесс четырёх» и ввёл танки в Прагу, чтобы убивать мирных людей и задушить на корню свободное волеизъявление свободно мыслящих граждан. Второе. С теми, кто вышёл двадцать пятого, не знакома, ни разу их не видела и не общалась. Третье. Я пошла двадцать шестого на то же место с той же целью. И исключительно по той причине, что ничего не знала про двадцать пятое. Знала бы — пошла на день раньше, вместе с ними, — она пожала плечами и откинулась спиной на холодную стену допросной камеры. — Ну и последнее. Пока — последнее, как вы выразились. То, что Всеволод Штерингас стал невозвращенцем, — ложь. И вы сами об этом прекрасно знаете. Почему — тоже понятно. Таким примитивным способом вы рассчитываете получить от меня нужные вам признания. Только получать больше нечего. Всё, что я считала нужным вам сказать, я уже сказала. А Сева здесь ни при чём. Он ничего не знал, поэтому улетел на свой конгресс. Поэтому я вас прошу, оставьте его в покое. И он, и мой отец не имеют к этому ни малейшего отношения. Такие ответы можно считать правдивыми? — Ницца Иконникова посмотрела на генерала ясными глазами, и он понял, что интервью можно сворачивать, потому что самое время начинать применять прочие инструменты дознания и подавления девушкиной непокорности. Те, что обычно не дают сбоя.
— Ну что ж… — задумчиво произнёс Глеб Иваныч, — полагаю, многое проясняется… По крайней мере, тот факт, что вполне уже можно обсуждать ваше психическое состояние. На профессиональном уровне. У меня есть ощущение, что вы, Наталья Ивановна, не вполне вменяемы на сегодняшний момент. Это и понятно: незрелая, идеологически не сформировавшаяся личность, начитавшаяся машинописных виршей безумных полууголовных сочинителей, наслушавшаяся вражеских западных голосов, натасканная такими же, как она сама, злопыхательски настроенными параноиками, даёт втравить себя в противозаконную антисоветскую деятельность. Идёт на Красную площадь и объявляет протест против собственного народа. Странно ещё, что вы, гражданка Иконникова, не прихватили с собой бутыль с бензином, чтобы небольшой костёр заодно устроить. — Ницца молчала, не удостаивая генерала ответом. Чапайкин поднялся. — Ладно, на этом этапе наш разговор можно считать законченным. Далее, думаю, вам придётся пройти психиатрическую экспертизу, на предмет вашей вменяемости. А потом… Потом вами займутся следственные органы. Или медицинские, всё зависит от результата экспертизы. А пока прощаюсь, Иконникова. И подумайте о себе. Надумаете чего — дайте знать. Возможно, ещё не всё так запущено. — Он нажал кнопку на столе, вызвав конвоира. Вертухай распахнул дверь допросной и замер по стойке смирно. — Уведите, — распорядился Чапайкин и поинтересовался вдогонку: — Кстати, ваши родные поставлены в известность относительно вашего задержания? — И одновременно подумал, что не помешает обыск произвести у девчонки. Чего найдут — покладистей станет, может. Заговорит. Хотя… эта, может, и не заговорит. Худший детдомовский вариант. Упёртая, сволочь.
Первые двое суток, пока сидела в милицейском изоляторе, Ницца раздумывала над тем, как дать знать своим о том, что с ней случилось. Просить их сообщить бабушке, единственной на тот момент находящейся в Москве родственнице, она не стала. Таисия Леонтьевна, узнав об аресте, могла бы просто эту новость не перенести. Так казалось Ницце. Севка улетел на конгресс. Больше сообщать было некому. Но, с другой стороны, ведь всё же на Киркиных глазах произошло. Она же сама и передаст тому, кого первым отыщет. Если Севка не вернётся раньше. А пока, может, вообще никто не узнает. И если про маму Киркину, Раису Валерьевну, как и про остальных вместе с ней, всё было известно с первой минуты — к тому моменту уже поднялась волна на Западе и готовился к выпуску первый номер «Хроники текущих событий», — то насчёт Ниццы была полная тишина. Кирка, опухшая от горя, страха и слез, металась, не имея представления, как найти кого-то из её родни. Всеволод, гражданский муж, не отвечал. Остальные жили где-то под Москвой, в деревне со странным названием Жижа. И тогда она вспомнила про Юлика, про художника Шварца, дальнего родственника Ниццы по линии приёмной матери-иностранки. Про милого сорокапятилетнего дядьку, который так славно изобразил её анфас, карандаш, картон, двадцать на тридцать пять. Который на прощанье, там, в полуподвале на Октябрьской, сунул ей тогда в руку номер своего подвального телефона и многозначительно посмотрел в глаза, проговорив едва слышно, так, чтобы не услыхала Ницца:
— Я тут по средам обычно. Заезжаю по делам. Так что звони, если что. Маслом теперь напишем, на века… — И улыбнулся. И ей понравилось, как он улыбнулся. Немножечко стеснительно, но по-мужски. С заметным восхищением. Не скрывая, что ему нравится то, что он видит.
Про разговор она забыла, но теперь вспомнила. И посмотрела на календарь. Надо же, этот день, тридцатое августа тысяча девятьсот шестьдесят восьмого года, пришёлся ровно на среду. И тогда она нервически набрала номер Шварца. На всякий случай, для очистки совести. И неожиданно услышала в трубке голос художника. Она начала что-то кричать, пытаясь объяснить про то, что получилось с Ниццей. Но Юлик не стал вслушиваться, просто коротко сказал:
— Приезжай. Жду, — и положил трубку.
Когда она, запыхавшаяся, влетела к нему в полуподвал и открыла было рот, он снова не дал ей говорить. Молча приложил ладонь к её рту, взял за руку и повёл внутрь. Там он усадил её на тахту, налил на два пальца коньяку и скомандовал, в приказном порядке:
— Пей, Кира.
Она, как сомнамбула, опрокинула в себя коньяк, одним глотком, и он, видя, что ей всё ещё не удается успокоиться, сразу налил ещё. Снова на два пальца. И она снова выпила, чувствуя, как тепло от второго глотка накрывает тепло от первого. И получается очень тепло. Юлик налил себе и тоже выпил.
— А теперь рассказывай, чего там у вас приключилось, — он положил руку на её ладонь и чуть-чуть сжал.
— Ниццу арестовали, — выдавила из себя Кира и внезапно заревела. Громко и отчаянно.
— Что? — не понял Шварц. — Ниццу арестовали? Как это? За что? Когда?
Тогда она, всхлипывая, глотая слова, уже будучи прилично нетрезвой от выпитого и пережитого, как умела, стала рассказывать художнику о себе, о маме, о «Белой Книге», о «Процессе четырёх», о двадцать пятом августа. И о двадцать шестом. О них с Ниццей. Как Ницца уламывала её и уломала-таки пойти двадцать шестого, вдогонку маме и ещё семерым. Как, дождавшись двенадцатого удара кремлёвских курантов, решительно двинулась к Лобному месту, по пути разворачивая плакат, в то время как она, Кира, сдрейфив в последний момент, осталась на месте и даже несколько сдала назад, ближе к зданию ГУМа, чтобы на всякий случай оставался шанс затеряться в толпе. А Ницца, догадавшись в последний момент о намерениях подруги, даже не повернулась, а просто пошла вперёд. Одна. И как её тут же скрутили, вырвали плакат и стали избивать ногами. Били в лицо, чтобы побольней. А милицейский воронок, неизвестно откуда вынырнувший через минуту, не больше, стоял рядом, поджидая финала экзекуции. Потом её быстренько зашвырнули внутрь, и машина уехала. Никто даже ничего не успел понять. Всё.