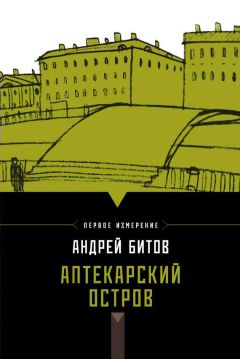— Алло! Кто говорит?.. — говорил Монахов, зачем-то дуя в трубку.
— Одна ваша знакомая… — «Что за бред?» — подумал Монахов. — Наталья… она просила вам передать, чтобы вы обязательно к ней приехали. Ей надо сообщить вам нечто чрезвычайно важное для вас. Это может угрожать вашей жизни…
— Что за чушь! — воскликнул Монахов, взглядом преследуя секретаршу, бегущую к параллельной трубке. — Кто говорит? Нет другого способа передать мне…
— Она очень больна, — голос звучал глуше, будто трубку вырывали.
— Чем?
— Я не могу больше говорить… — короткие гудки.
— Алло! — Красный, Монахов дул в трубку. И не сразу сообразил, зачем Исмаилов протянул к нему безмолвную короткопалую руку. Исмаилов взял у него из рук трубку и положил на рычаг, как ценную вещь.
Это было нелепо, но в результате Монахов выходил от Исмаилова, чувствуя себя оплеванным. Секретарша провожала его круглым взглядом.
«Ну погоди!» — кипел Монахов; он вышагивал к дому злым, стремительным шагом; он добирался до самого верха и выводил Исмаилова на чистую воду; он выговаривал Наталье как школьнице; он с жесткой иронией обращался к самому себе: дурак, например. Посмеиваясь над иными своими предположениями, никак он не мог, однако, скинуть их совсем со счету: что Наталья действительно больна, или что ему подстроили ловушку ее поклонники — тот же Ленечка, или что Наталья какими-то своими путями узнала о действительно грозящей ему опасности: быть убитым мафией (Исмаилов — глава), что ее саму захватила эта мафия, однако она нашла способ передать ему на волю… Тут он громко смеялся в голос, не обращая внимания на прохожих, — над собою: мальчишка, кино!.. Если это все Натальины штучки с целью заставить его к ней приехать, то следовало их разгадать и наказать ее, не приехав. Но и в таком случае было в этой настойчивости нечто лестное для Монахова, подтверждение чар… А если это угроза… сердце сжималось от мальчишеского страха, Монахову становилось весело, он воображал, как разнесет всю эту трусливую засаду, а если будет избит, то и это чем-то устраивало Монахова… Во всяком случае, он не струсит, он поедет, он, как (с их точки зрения) дурак, сам полезет головой в мышеловку, не связываясь с милицией, никого не оповещая. Чем страшнее рисовал он себе картины, тем смелее становился. А если это подстроила Наталья, чтобы проверить его смелость?.. Вот вариант, не учтенный им, однако наиболее возможный: проверка на вшивость… Удовлетворение оскорбленного женского самолюбия: мол, он не стоит того, чтобы так уж набиваться…
И вот в этом, последнем, случае, как-то совмещавшем в себе оба первых, Монахов наверняка задерживался в Ташкенте еще на день, чтобы с честью пройти подобную проверку, чтобы все остальные как раз ее-то и не прошли.
Следует в пользу Монахова отметить, что до конца сохранился и рыцарский аспект, пусть маловероятный: что она больна, что ей самой может что-то грозить…
3«Вот я и приехал…» — усмехнулся про себя Монахов, следуя за сильной Наташей, легко несшей пудовую корзину. На секунду ему померещилось, что именно сюда он и ехал: откуда-то оттуда, не от мамы и не от жены. Квартиру он воспринял заново, будто ни разу в ней не был. Он протискался в темную прихожую между Наташей, корзиной и дверью, отсюда была видна насквозь кухня: сухонькая седая растрепанная женщина с папиросой во рту мыла посуду.
— Тетя, это Монахов, — сказала Наташа, пристраивая корзину.
Тетя отклонилась назад, близоруко щурясь в темноту прихожей, приветливо кивая, будто ей дым лез в глаза, мол, извините, мокрые руки, ничего не видя… Монахов расшаркивался в темноте с учтивым замешательством.
— Пошли, пошли. Ты с дороги. Тебе надо принять душ… — громко, для тети, говорила она и влекла его дальше по столь же темному коридору. — Не обращай внимания. — И Монахов последовал за ней, галантно перед тетей пританцовывая, будто еще кто-то был между ними, какое-нибудь небольшое животное, чтобы не наступить… «Что она ей наплела?» — кисло думал Монахов. Эта в секунду образованная в коридоре семья, состоящая из него и тети, его не устраивала. Предчувствия, не обманувшие-таки его, подступили вплотную. Тоска о собственном, исчезающем обмане охватила его. «Сейчас я ее решительно расспрошу, зачем она подстроила этот звонок Исмаилову. И тогда…» Но спросить ему так и не удалось.
Комнату он тоже не узнал. В ней, такой было пустой, поместилось нелепое количество новых предметов: столовский столик, отороченный алюминиевой полосой, к нему в гарнитур такой же стул; деревянный ангелок, головка, антиквариат, подлинник с отколотым носом, с крылышками за ушами, висел на свежем гвозде; большая иностранная фотография — голая белая девушка рядом с гигантским, белым же, изоляционным роликом; большая шкура неведомого Монахову животного на полу, а на шкуре, обняв замызганные коленки, — глубоко небритый, всклокоченный человек, сверстник Монахова, уж не Ленечка… Монахов растерялся.
— Какой ты смешной, Монахов! — восхитилась Наташа. — Что с тобой? Это же Зябликов, ты его уже видел.
Монахов попер к нему с протянутой рукой.
Сделав чисто формальное движение приподняться, Зябликов подал крошечную немытую ручку.
— Монахов, — сказал Монахов.
Зябликов, однако, не сказал «Зябликов», а лишь внимательно взглянул. Взгляд этот несколько смутил Монахова, хотя и не содержал в себе ни недовольства, ни вызова — будто Монахов стал виден насквозь. Это ничем пока не подтвержденное впечатление ума Зябликова вызвало в Монахове смешанное чувство почтения и неприязни.
— А ты обставилась… — сказал Монахов, чтобы сказать.
— А это, — смеясь, показала Наталья на стол, — они с Ленечкой вчера из кафе, что на углу, приперли…
— Как? — не понял Монахов.
— Так, взяли за углы и понесли.
Зябликов будто и сам с интересом слушал.
— А этот… ангел, — ткнул тогда Монахов в ангелочка. — Ведь настоящий? — настороженный за свое знание искусства, спросил он.
— Это не ангел, а херувим, — гордо сказала Наталья. «Какая разница?» — раздраженно подумал Монахов. — Ленечка ненастоящего бы не подарил… — Монахов молчал. — А это шкура Зябликова.
— Не моя, конечно, а яка, — сказал Зябликов. И эта шутка, не стоившая того впечатления ума, которое он на Монахова произвел, была, значит, чистой любезностью. Монахов особенно готовно засмеялся: демократия Зябликова его покорила. Получалось, правда, что лишь один он без подарка. Он подумал было о корзине с фруктами, но тут же отверг подобное предположение, показавшееся ему слишком циничным, что ли. Он тогда чуть поудивлялся про себя, что и не подумал о подарке, убежденный, по-видимому, что он сам и есть подарок. Монахов усмехнулся. Зябликов раскрыл перед ним коробку каких-то удивительно длинных папирос.
— Я их сам набиваю, — сказал он.
Из ложного чувства Монахов готовно взял одну, сел рядом на шкуру и теперь крутил папиросу в пальцах, просыпая табак.
— А я бросил курить, — сказал он.
Зябликов без слов вынул папиросу из его пальцев, положил назад в коробку. Монахов растерянно улыбался.
Наташа вышла на кухню — Зябликов молчал, и Монахов молчал, последовательно удручаясь от мысли. Он словно только сейчас понял. Когда он вот так внутренне метался, из трех путей выбирая один, почему каждый из трех становился единственным? С чего бы это? С чего бы это — в том случае, если он решался на Наташу, то дальше с порога они входили на какую-то, как площадь широкую, постель, оставаясь всегда вдвоем, без помех, до тех пор, по-видимому, пока Монахову в очередной раз не станет пора? Вот этот вихрь с порога, как награда за решимость, это расчисленное пространство дня рождения вдвоем — одно и могло победить в выборе. То есть варианты выбора порывают с реальностью, пока выбор, умножаясь, пытается ее отразить… Эволюция варианта: побеждает тот, который умудрится прикинуться наиболее соблазнительным.
А здесь — Зябликов, тетя, херувим… — все то, что было легче всего себе представить с самого начала. «Выбор искажает цель», — Монахов подержал эту мысль, как держат в руках какую-нибудь законченную форму, деталь, неизвестной нам принадлежности и назначения — такая симпатичная вещица, а ни к чему, — и отложил, забыл за неупотребимостью. Наташа поманила его в коридор.
— Ты что же, Монахов… Дурачок, Монахов, — приговаривала она, обнимая его как столб. — Ты зачем на Зябликова дуешься? Он-то при чем?
Монахов удивился этому предположению… Вот уж что угодно, но о сопернике он не думал. Именно, что он считал себя вне конкуренции… Даже мысль такая ему в голову прийти не могла.
— А что, и твой Ленечка будет? — сообразил он.
— Они уйдут, уйдут!.. — запальчиво говорила Наташа, обнимая и любя его всё больше. — Не могла же я их не позвать… — умоляла она.