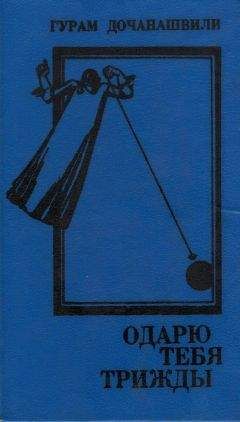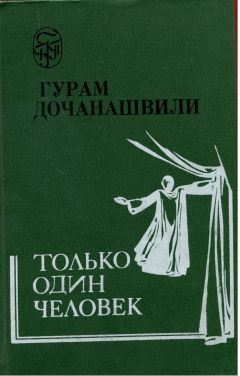— Видишь вон тот цветок. Принеси мне, я хочу.
* * *
А Картузо-ага Бабилония топтался в приемной великого герцога. Он был в сильном волнении: вот уже шесть дней как в полости рта у него засело нечто весьма важное, что ему не терпелось выложить. А за стеной, затянутой коврами, пребывал в преизрядном волнении сам великий герцог Лопес де Моралес; подобно преславной и пренедоброй памяти Бонапарту, и он тоже мог делать одновременно два дела — первое то, что он тревожно сновал взад-вперед, — это одно, а к тому же еще и думал при этом (это второе): «Интересно знать, чего он хочет... Как-никак он все ж таки законный муж, и, быть может, у него иссякло терпение... и он решился...» В страхе перед острейшим ножом, запрятанным в рукаве внушающего подозрение гостя, великий герцог приказал своему мужского пола секретарю — дюжему, здоровенному парняге — сказать Картузо следующее: «Если вы желаете попасть к великому герцогу, то предварительно вас должен — совершенно безвозмездно — тщательно отмыть-оттереть банщик». — «А это зачем?» — «Затем. Следуйте за мною вниз, там баня». Бабилония слегка передернуло, ибо ведь и свою жену, шумно известную Мергрет Боскана, он сам тем же манером — тщательно отмытую и оттертую — отправлял на встречи с тем же герцогом; а еще чуть позже, распластавшись ниц на безучастной мраморной лежанке с оседлавшим его терщиком на спине, он думал, испытывая неприятные подозрения: «Как бы еще эти охальники не учинили надо мной чего...», но он ошибался — в соседней комнате трое очень тщательно пошуровали в его парадно-дорогом костюме и в три пары глаз обзырили его документы. Только и всего.
— Величайший из великих герцог, кислородно сияющее солнце, озаряющее преславную и раздольную провинцию Мурсия, надеюсь, ваша милость пребывает в благоденствии и красоте, а? — так спросил набанившийся гисторик, на вечно лоснящейся физиономии которого еще не успел проступить плотский жир.
— Слушаю вас, Картузо.
— Я весьма и весьма безмерно рад, что вы чувствуете себя хорошо и изволите пребывать в добром здравии, пошли вам господь силы двухсот быков-бугаев...
— Я сказал, что слушаю вас.
— Это секрет, ваше счастливоблагорожденное благородие, — зыркнул по сторонам копатель вековых недр, — если бы ваши телохранители на несколько минут оставили ваш светлый глубокоделовой кабинет, я бы тотчас же вам все изложил.
— Это пустяки, все трое туги на ухо, — сказал герцог, швырнув в хрустальную урну только что послуживший ему к утиранию лба весь просалившийся носовой платок и доставая новый, обреченный тому же носовой платок. — Говори, что тебя беспокоит, только поживее, не тяни.
— Великий герцог, я хочу покорнейше просить вас, чтоб вы собрали всех музыкантов провинции за одним общим на славу накрытым столом...
— Но у них ведь есть зарплата? — приглушенно спросил Лопес де Моралес и слегка навострил уши в ожидании ответа.
— Есть, как не быть, — бойко выкрикнул третий телохранитель.
— Ну а если так, то с какой же стати они должны жрать-пить за мой счет, — строго глянул на Картузо одно-двухразовый в месяц друг-приятель его жены.
— Зарплата у них вашими щедротами есть, великий герцог, но дело совсем не в том, чтоб кормить их и поить, я хочу...
— Да выжми же наконец из себя слово, говори толком, чего ты хочешь?
— Я хочу, чтоб мы всех их отравили.
— Что?
— Отравить хорошенько, чтоб все передохли.
Главноначальствующие провинций частенько сталкиваются с удивительными вещами, да, да, но наш Лопес только трижды на своей должности был крайне изумлен. Первый раз это случилось на дороге Валенсия — Альдабадакра — Мадрид[47]: великолепный, только-только доставленный из Аравии чистокровный скакун почему-то страшно нехотя переставлял под герцогом ноги, а когда седок ласково потрепал его по лоснящейся холке рукой и спросил по-испански: «В чем дело, почему ты заскучал?», то животина, чуть свернув голову набок, глянула на него искоса и по-испански же ответила: «Как тут не заскучать, собачий ты сын? Тебе ли восседать на таком коне, как я?» Вот тогда-то и был впервые переизумлен наш Лопес: откуда мог этот арабский скакун знать по-испански. А второй раз — на торжественном сборище, созванном в честь девяносто четвертой годовщины со дня рождения герцога Альбы и устроенном символически в отягченном зрелыми плодами саду, где наш Лопес, стоя на своих на двоих, говорил речь, провозглашая светлую память и славословя имя национального героя, когда во время его содержательной речи с дерева сорвались и упали именно на его кресло две черешни, что осталось незамеченным сопровождавшими его лицами, и когда он, Лопес, под бурю аплодисментов уселся в своих белых брюках на эти самые черешни, а затем горделиво прошествовал перед замершим по стойке «смирно» гарнизоном и телохранители не посмели даже намекнуть ему о столь щекотливом обстоятельстве, делая вид, будто они ничего такого не замечают, а кое-кто из присутствующих даже подумал, что эти кричащие пятна — не что иное, как новая награда или же регалии, связанные с новым званием, вот тогда-то именно, в тот самый вечер, его чуть было кондрашка не хватила, когда, встретив его дома, жена, любящая резать правду в лицо, все это ему так прямо и бухнула, да еще дала ему как следует насмотреться на его собственную нижнеспинную часть тела в зеркальном зале. Ээтто — второй раз. А третий раз он изумился теперь:
— Но зачем?
— Так нужно.
— Но почему же?
— Ничего не поделаешь, так нужно, ваше благорожденное благородие.
— У-ух! Будешь ты наконец говорить ясно, ублюдок! Все трое марш из комнаты... Слушаю вас, синьор.
— Для вашего благоденствия в потомстве, всемилостивейший государь, именно это в точности и необходимо.
— Переморить всех музыкантов?
— Обязательно, — резво откликнулся Бабилония, лоб-нос-щеки которого уже сплошь покрылись очень плохого сорта жиром. — Надобно истребить их, как мышат, чтоб не попискивали по-мышиному на своих дурацких инструментах.
— Но почему? Музыканты в основном безобидный народ.
— Вы называете их безобидными, — пригнулся к герцогу довольно далеко от него стоявший Бабилония, — но может статься, что лет эдак через триста народы мира не будут знать досконально обо всех ваших заслугах и путях ваших великих свершений, и все потому, что всё их пустейшее внимание будет сосредоточено на какой-то музыкантской швали вроде Бахтховена.
— А при чем тут эти болваны — музыканты Мурсии?
— Как бы кто-нибудь из них не вышел в знаменитости!
Воплощенный титул Лопес прошелся-стал-прошелся по кабинету. Глубоко призадумавшись над ответом-выбором, он с головой погряз во всяких взвешиваниях-перевешиваниях, и, чтоб как-то заполнить молчание, нет-нет да и ронял беспредельно небрежные вопросы:
— Жена у вас есть?
Тут даже сам Картузо и тот растерялся.
— Ну-у, не так, чтобы...
— Имя?
— Чье, жены? — окончательно опешил Картузо.
— Нет, музыканта.
— Бахтховеном называют, но мне кажется, что это фамилия. Прикажете уточнить?
— Нет надобности... Вот у правителя Сьерра-Невады... музыкантов очень много... незначительные осадки... на что я сел... а он-то не промах... — ронял порой обрывки мыслей местопризнанный правитель. — Приемы за приемами... все хотят музыки... у меня часто бывают гости... А если они скажут... Люстра...
Когда Лопес де Моралес придумал наконец верный ответ, он сразу же отверг всякую небрежность и вновь стал герцогом, — он степенно опустился в кресло, твердо уперся кулаками в дорогой резной стол, с силой вжал подбородок в плоеный воротник и, пристально уставившись в глаза гисторика, изрек:
— Через триста лет, Бабилония, то есть после меня, хоть трава не расти, а у меня, у нынешнего, сегодняшнего герцога, должен быть обслуживающий меня и представляющий меня в наилучшем свете персонал, как то: телохранители, повара, музыканты, терщики, — и, преисполненный коварства, опустив голову и посмотрев очень исподлобья, спросил: — Ну чем, чем я хоть сколько-нибудь хуже других герцогов?
— Ничем не хуже, превеликий государь, второго подобного вам я не знаю на всем белом свете, чем вы...
— А теперь изволь отправляться. И во время сна не повизгивай, это нехорошо.
10
А во флейте пребывала жиденько-серебристая, трепетно-нежная душа Луны, и в мнящемся таинственным лунном свете, в бледно-печальном мерцании упоительной ночи она становилась звучнее, и Бесаме, весь отдавшийся этой своей флейте, — он уже не мог по ночам без ее утонченно прелестных звуков, — чтоб тревожить многоцветно-пестрые, неразгаданные, много сулящие, грубо скованные легковесные сны спящего города, затаив дыхание поднимался со своим инструментом, в котором притих волшебник, на заветный холм Касерес и осторожно умащивался там в пригоршне Ночи, чтоб играть.