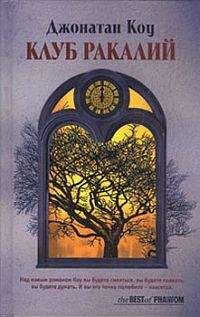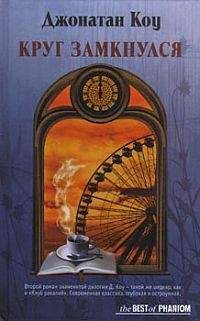— Ну что, англичанин, как тебе понравился вкус настоящего валлийского пива? В туристских пабах или на вашей стоянке (следующее слово выплеснулось из его гортани, точно комок слизи) прицепов такого не получишь.
— Не называй его «англичанином», — сказала Сисили, — ужасно грубо звучит.
— Но ты ведь англичанин, верно? — спросил, скосившись на Бенжамена, Глин.
— Разумеется.
— Ну вот, я тебя так и называю. Ты же, я полагаю, не стыдишься звания англичанина?
— А что, следует?
— Лично я англичан не люблю. И, как это ни странно, никто из друзей, с которыми я только что разговаривал, их тоже не любит. А знаешь почему? — Глин не стал дожидаться ответа, он просто продолжал говорить: — Так я тебе скажу: валлийцы ненавидят англичан с незапамятных времен и будут ненавидеть, пока те не перестанут лезть в их дела. Они ненавидели англичан с самого тринадцатого века, когда Эдуард Первый вторгся в Уэльс, и его солдаты убивали женщин и детей, и убили Ллевелина Второго, и приняли законы, по которым валлийцам не дозволялось иметь никакой власти, а законы Уэльса отменили, заменив их английскими, и понастроили по всей стране английских замков, запретив валлийцам жить хоть в какой-то близи от них, и при этом все время посылали валлийцев во Францию, на поля сражений, и те гибли там в войнах, никакого отношения к ним не имевших, но зато оплачивавшихся главным образом из налогов, которые англичане с них драли. А еще пуще стали ненавидеть в начале пятнадцатого столетия, когда Оуэн Глендовер возглавил движение за независимость и попытался воскресить в валлийцах чувство национального самосознания, англичане же ответили тем, что обратили весь Северный Уэльс, и Кардиган, и Поуис в пустыню, сжигая дома и разрушая церкви, они даже захватили тысячи валлийских детей, оторвали их от семей и отправили в Англию, в услужение богатым англичанам.
Глин свернул на обочину и выключил двигатель. Привычная страсть так захватила его, что машину начало мотать на узкой дороге из стороны в сторону, и потому к остановке этой все отнеслись с облегчением.
— И во все эти ужасные времена, — снова заговорил он, — только бардам и удавалось сохранять живым валлийский язык, прекрасный язык Уэльса, самый древний — известно тебе об этом? — на всех наших островах, однако и его, родной наш язык, самую нашу суть, отнял у нас в тысяча пятьсот тридцать шестом Томас Кромвель с его так называемым Актом о так называемой Унии, насадившим у нас бесцветный, тошнотворный, хилый английский язык и обратившим, господи помилуй, в преступление даже ведение собственных наших дел на нашем родном языке! Этот проклятый Акт ничем не отличался от Акта об Унии, который англичане навязали шотландцам в тысяча семьсот седьмом, пригрозив, если условия их будут отвергнуты, заблокировать всю шотландскую торговлю и принудив шотландский парламент проголосовать за собственное упразднение в обмен на крохотную горстку шотландских членов парламента в Вестминстере и на презренную подачку в несколько сот тысяч фунтов. «Но золотом английским нас на торжище купили»,[54] — писал Робби Берне, и, видит Бог, он был прав! А следом англичане повели себя с шотландцами в точности так же, как с Уэльсом, переиначивая систему налогов, чтобы оплачивать деньгами, заработанными тяжким трудом шотландских крестьян, ткачей, рудокопов, заграничные имперские авантюры Англии. Так оно и продолжается по сей день, только теперь в дело идут доходы от нефти, добываемой в Северном море. И все-таки страдания, которые пережили Шотландия и Уэльс из-за ненасытности, твердолобости и жестокости англичан, не идут ни в какое сравнение с ужасами, выпавшими на долю Ирландии. Имеешь ли ты хоть какое-то представление, говорят ли вам в ваших школах хоть что-нибудь о страшных бедствиях, которые обрушились на Ирландию во времена правления Елизаветы Первой и протектората Оливера Кромвеля? Когда Елизавета приступила в тысяча пятьсот пятьдесят шестом к колонизации Ирландии, страна восстала, и английские генералы королевы принялись состязаться друг с другом в лютости, с которой они убивали, вешали, обирали, грабили и вырезали ни в чем не повинное местное население. Земли, принадлежавшие и погибшим, и уцелевшим, неважно, захватывались и отдавались шотландским переселенцам, а когда в шестьсот сороковых разразился новый бунт, его подавил Кромвель, недолгое время носившийся с идеей тотального геноцида, а после решивший просто-напросто переселить всех коренных ирландцев за Шаннон. И, пока шло переселение, тысячи ирландцев были убиты, или заключены в тюрьмы, или отправлены морем в Вест-Индию, где их обращали в рабов. Боже ты мой, и после таких жестокостей тебя удивляет, что любой ирландец, еще сохранивший силу духа, по-прежнему считает себя пребывающим в состоянии войны с англичанами, продолжающейся вот уже три столетия? Тебя удивляет, что шотландцы не верят вам, а валлийцы вас презирают? Ты полагаешь, индейцы Америки, маори Новой Зеландии или аборигены Австралии и Тасмании простят вам то, что вы почти истребили их, убивая, моря голодом и заражая болезнями? Нет, знаешь ли, вам больше не удастся дурачить мир вашей ах какой очаровательной застенчивостью, вежливостью, английской ироничностью и английским самоуничижением. Спроси любого самостоятельно мыслящего валлийца, шотландца или ирландца — и ты получишь один и тот же ответ. Вы — люди жестокие, кровожадные, алчные и склонные к стяжательству. Нация тунеядцев и мясников. Тунеядцев и мясников, говорю я тебе! — Глин, сидевший наклонясь к рулю и стискивая его побелевшими от напряжения пальцами, откинулся назад, резко вздохнул и спросил: — Ну-с, что ты скажешь на это, англичанин?
Последовало долгое молчание — Бенжамен, поджав губы, тщательно подбирал слова.
— Что же, существует и такая точка зрения, — ответил он.
Глин включил двигатель и повез их домой.
* * *
В послеполуденный час следующего дня, безоблачного, с пронзительно синими небесами, дня немыслимого покоя, дня, когда гудение насекомых в вереске и то представлялось исполненным смысла событием, Бенжамен и Сисили поднялись, чтобы прогуляться, на мыс, тянувшийся над Ривом. Вчера ночью, прежде чем разойтись по кроватям, они поцеловались в дверях ее спальни, и никаких сомнений относительно смысла его поцелуй этот не оставил. Правильно истолковать такой поцелуй способен был даже Бенжамен. Сисили прошептала: «Что-то у нас с тобой завязалось, правда?» — а после ускользнула во тьму своей спальни, напоследок успев с быстрой, упоенной улыбкой оглянуться на Бенжамена.
Он пролежал без сна почти до рассвета — мысли о новом, нежданном счастье так и плясали в его голове.
Сегодня же они карабкались, поднимаясь к зазубренному кряжу Крейгиау-Гвинеу, на котором, по словам дяди Глина, стояла некогда горная крепость, построенная, вероятно, еще в железном веке. Впрочем, в этот жаркий безмолвный час им, окруженным с трех сторон океаном, по которому катили пенистые валы, было не до размышлений о подобных вещах. Спуск от крепости к верхушке обрыва оказался более пологим. Бенжамен, держа Сисили за руку, вел ее по овечьей тропе сквозь колючий утесник: в таких местах он обретал проворство и уверенность шага, обнаруживая, что само строение земли Ллина запечатлелось в его сознании за годы детских прогулок, за долгие светлые вечера, отданные веселым вылазкам с Лоис, с отцом и мамой, с дедушкой и бабушкой, даже с Полом. Пусть Глин говорит что хочет: часть этого полуострова все равно принадлежит ему, в каком-то смысле.
Еще не достигнув края обрыва, они наткнулись на широкую, изрядно разбитую дорогу, идущую вдоль мыса. Они повернули налево и пошли по ней в сторону Порт-Нейгула. Там, где дорога сворачивала, уклоняясь от моря, из папоротников поднималась широкая плоская каменная плита. Прекрасное место, чтобы присесть и передохнуть. Его как раз хватало на двоих, если, конечно, эти двое не против того, чтобы сидеть, как можно теснее прижавшись друг к другу.
Бенжамен окинул взглядом огромную ширь залива, заслужившего свое название тем, что в ходе столетий он заманил в себя на верную смерть бесчисленных мореходов; нынче залив — в который, впрочем, раз — выглядел почти благодушным. Величавость этой панорамы, еще и освященной присутствием Сисили, наполнила душу Бенжамена загадочным, неизъяснимым блаженством.
— В прошлом году, вот в это же время, — сказал он, — мы с дедушкой смотрели на такой же вид. Вон оттуда, — он указал на лежащий по другую сторону залива Клайн. — И дед произнес удивительные слова. Он сказал, что невозможно смотреть на такую картину и сомневаться в существовании Бога.
Несколько мгновений Сисили молчала, а потом спросила:
— А ты с ним согласен?
Бенжамен открыл было рот, чтобы ответить, но смолчал. Он едва не выпалил решительное «да», однако что-то удержало его. Некое новое вкрапление неуверенности в сознании. Сложная вереница быстрых мыслей, приведенных в движение этим вопросом, завершилась неожиданно тем, что он произнес, обращаясь к Сисили: