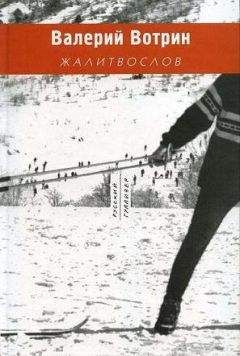Вероника радостно взвизгнула и бросилась ему на шею, завидев, что у него в руках. Пока он жарил мясо, она вилась вокруг, то приобнимая его сзади, то стараясь укусить за ухо. Она съела целую сковородку молодой баранины и, сытая, успокоенная, отвалилась на спинку стула. Он с любовью поглядел на нее и решил, что пора идти работать: он знал теперь, как будет выглядеть лицо последнего волхва.
— Ясельников! — окликнула она его, когда он встал. Он взглянул на нее. Она сидела, притихшая и очень серьезная.
— Я беременна, — сказала Вероника.
Душа наша избавилась, как птица, из сети ловящих; сеть расторгнута, и мы избавились.
Псалом 123
Постоялый двор под вывеской «У ворот», каковая вывеска намалевана была желтой краской на фоне цвета голубиного яйца, в точности соответствовал своему названию. Он располагался близ главных городских ворот и испытывал все прелести такого соседства. Верно, пыли и гаму доставалось двору во множестве, так что иной раз доходило до жалоб. Но и прибыли было основательно, особенно в ярмарочные дни, иначе стал бы терпеть хозяин двора, рыжий Штюблер, все эти неудобства: гам, и пыль, и возчиков… ох уж эти возчики! Знатные господа предпочитали останавливаться не тут, а дальше, в гостинице «Бык и щит» на улице Мечников и в гостинице «Счет и бук» на улице Подсвечников. В заведении же Штюблера селился известно кто: торговцы, актеры, бродячий ремесленный люд, возчики… эти ему возчики!
Поэтому-то и удивился хозяин, когда в один прекрасный день на его дворе остановилась карета. Штюблер вытаращил глаза. Он сделал это не потому, что карета остановилась на его дворе, — такое случалось и раньше, когда требовалось напоить или задать корма господским лошадям, — нет, удивился Штюблер гербу, красующемуся на ее дверце. То был знак из двух перекрещенных кос. Никогда не видывал такого герба прежде Штюблер, а уж насмотрелся он на дворянские гербы порядком. Тут дверца кареты откинулась, и Штюблер забыл про перекрещенные косы. К нему через двор, заставленный крестьянскими повозками, направлялся господин высокого роста в треуголке, черном атласном кафтане, шитом жилете, белых чулках и башмаках с пряжками из чего-то сверкающего. При господине также была палка, и Штюблер тут же переключился на нее, — когда имеешь дело с господами, палку, бывает, узнаешь раньше, чем лицо. Но вот господин переступил порог, и Штюблер еще ниже склонился. Палка оказалась в непосредственной к нему близости — грозная палка, с медным наконечником.
— Послушайте-ка, милейший, — сказал над ним приятный голос, обращаясь явно к нему, Штюблеру, — есть ли у вас свободная комната? Я намерен остановиться на вашем дворе.
От удивления Штюблер поднял голову и встретил то, чего не ожидал ни в коем случае, — ласковый взгляд незнакомца. Никто никогда не смотрел на Штюблера ласково, разве только его покойная жена в первые месяцы их помолвки. Знатный господин не носил парика, его черные волосы спадали ему на плечи, он был смугл и красив, а его глаза смотрели прямо в лицо Штюблеру. А тот смотрел в них, смотрел завороженно. А ведь ничто не могло заворожить Штюблера, даже зрелище полного кошелька, — разве только покойная его жена в первые месяцы их помолвки… Под этим мягким, всепостигшим взором Штюблер почувствовал, что из его груди рвется что-то такое, о существовании чего он и не подозревал. Ему вдруг стало жалко себя, каким он представал этому взгляду. Подумать только, что приходиться ему переносить — ежедневные хлопоты, и вонь, и грязь, наносимую гостями, и эти ночные кутежи. И вот появляется господин из благородных, который входит в его положение и, не обинуясь своим званием, желает поселиться на его постоялом дворе. Штюблер от волнения не мог выговорить ни слова.
А господин, точно выгадав момент, вдруг протянул свою руку прямо ко рту Штюблера жестом, каким нянька побуждает несмышленое дитя выплюнуть что-то несъедобное, и мягко, но повелительно произнес:
— Дай мне ее. Ну, дай же!
И Штюблер почувствовал, как то, что обычно уходило ему в пятки при виде огромных свирепых возчиков, дерущихся столами и лавками, вдруг встало поперек горла, словно рвотный позыв. Он задохнулся, выпучил глаза, поднатужился и выплюнул в руку господина небольших размеров рыжее веснушчатое яйцо.
— Ну вот, — ласково сказал господин, — теперь тебе будет легче.
Тупо смотрел Штюблер на его руку, убирающую яйцо в карман, на карету, из которой выносили какие-то огромные сундуки и втаскивали их наверх, на тяжелый кошель, звякнувший перед ним. Кошель был дорогой, бархатный. Первый раз в жизни Штюблер смотрел на кошель и кошеля не видел. Вместо этого он безуспешно пытался припомнить, когда это его угораздило проглотить целое воробьиное яйцо. Припомнить он не смог, и ему стало легче.
Только наверху, в своей комнате, Пераль рассмотрел добытое. Какая удача. Первый встречный, хозяин постоялого двора, — и уже целое яйцо. Пускай оно воробьиное — сойдет и такое. Разве важно, какого цвета его скорлупа? Бережно, одними пальцами, держал он яйцо и медленно поворачивал его перед глазами. Потом поднес его к уху, пытаясь угадать сквозь тонкую скорлупу шуршание, царапанье тоненьких ножек… Нет, нет, еще рано. Подойдя к одному из сундуков, только что втащенных в комнату, он легко поднял его окованную железом крышку. Под ней обнаружились словно бы соты, ряды выстланных ватою лунок, в каждой из которых покоилось яйцо с прикрепленным ярлычком. Яиц в сундуке было так много, и они были такие разные, что начинало рябить в глазах: яйца большие и малые; куриные и тетеревиные; белые и крапчатые; круглые и продолговатые. Пераль осторожно поместил яйцо в пустующую лунку и задумался, глядя на ярлычок. Ничего, имя он может узнать позже. Что имя, когда яйцо у него.
— Я знаю, вы тонкий ценитель, Пераль, — услышал он слова и склонился перед произносящим их. Князь Теодохад милостиво улыбнулся. Мертвенно-белое горбоносое лицо, одна бровь так высоко заламывается кверху, что почти скрывается в буклях парика.
— Кому, как не вам, доверить пополнение мой коллекции, — продолжал князь. — Пойдемте, я покажу вам ее.
— Почту за честь, — отвечал Пераль, склоняясь еще ниже.
— Вам нравятся мои бабочки, Пераль? — снова раздался голос князя.
— Они великолепны, ваша светлость, — отвечал Пераль.
— Как видите, они ночные. Я собираю только ночниц, Пераль. Это моя прихоть. Но взгляните еще — разве они не прекрасны?
— Они изумительны, ваша светлость, — отвечал Пераль.
— Я собираю их в городах, — продолжал голос. — Это особые бабочки, совсем особые. Они поступают ко мне во множестве, а я отбираю лучших. Только самых лучших, вы понимаете меня, Пераль?
— Разумеется, ваша светлость.
— Но прежде я отбираю города, Пераль. Не в каждом городе водятся такие бабочки. Они обитают, как ни странно, только в тех городах, которые рассердили меня. И я посылаю туда людей, дабы они собрали с них дань. Дань этими бабочками, ибо они не простые, а совсем особые, вы понимаете меня, Пераль?
— Да, ваша светлость.
— Итак, это сбор, а не лов, Пераль. Сбор, а не лов. Вы меня понимаете?
— О да, ваша светлость.
— Итак, кем же вы не будете, Пераль?
— Ловцом, ваша светлость.
Он помнил, как, выйдя от князя, вознегодовал на себя за то, что так легко отказался называться ловцом. В его роду все были ловцы, подстерегатели. Боже, какая нелепость!.. Сбор, а не лов. Бабочки с аккуратно расправленными крылышками, точно распятые, с булавкой в груди. Для чего ты их оставил?.. И вот совершилось…
В дурном настроении прибыл он к бургомистру, велел доложить — явился кавалер Пераль. Двери перед ним распахнулись. Посреди комнаты в явном замешательстве стоял бургомистр Де Сипт, осанистый, в расшитом камзоле и огромном пудреном парике. На лице его выделялись две глубокие морщины, пролегшие от носа к уголкам рта и придающие его лицу выражение горького недоумения. Пераль без поклона быстро подошел к нему и протянул бумагу. То была княжеская грамота, и Де Сипт так и впился в нее глазами. С каждым прочитанным словом две морщины все глубже врезались в его лицо, так что под конец чтения казалось, что они едва не налились кровью.
— Итак, чем же мы прогневили его светлость? — тихо спросил он наконец, возвращая Пералю грамоту. — Тем ли, что исправно платим налоги? — Голос его начал крепнуть. — Или тем, что регулярно снабжаем его двор женщинами, отдавая ему самых красивых женщин города? Этим ли?
— Вы, право, забываетесь, — заметил Пераль.
— …Или тем, что вот уже два года на город наложен интердикт? Младенцев не крестят, покойников не отпевают. Это ему в гнев? Мы во всем склоняемся перед ним, князем нашим, даже в том, что не просим святого отца снять с города интердикт, который был наложен не за наши грехи! А он, наш князь, в отместку затеял… этот подушный сбор!