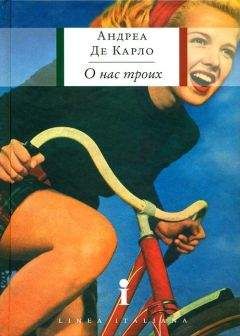— А что — Марко? — внезапно спросила Мизия.
— Марко? — переспросил я, испуганный неожиданным блеском в ее глазах.
— Да, как он поживает? — спросила Мизия и взглянула на меня уже совсем по-другому.
— Мы несколько лет не общались, — сказал я. — Последний его фильм произвел фурор. Он снимал его в Ирландии.
— Это я знаю, — ответила Мизия. — Я тоже читаю газеты.
Она стояла напротив меня и казалась живой и естественной, никаких там ролей и правил поведения; я слышал ее дыхание и чуть ли не биение ее сердца.
— Больше я ничего не знаю, — сказал я, — но думаю, у него все хорошо. Марко стал настоящей легендой. Он человек особого рода.
— Какого еще рода? — спросила Мизия. (И опять легкое движение и беглый, как бы сбоку, взгляд.)
— Он из тех немногих людей, которых удержать просто невозможно. — Я сам не понимал, почему говорю именно эти слова. — Знаешь, эти люди совершенно не похожи на свои фотографии. Они как бы живут в другом измерении и в другом пространстве. Только что Марко как бы был полностью поглощен своим делом, а потом просто взял и выбросил его из головы и сам исчез неизвестно куда, хотя любой бы на его месте пребывал на вершине блаженства и наслаждался своим успехом.
— Ну да, — сказала Мизия, безуспешно пытаясь улыбнуться.
Я уже не мог остановиться: досада, глупость, зависть, недовольство, усталость, ревность, разочарование, неуверенность — все эти чувства, сплетаясь воедино, жгли меня изнутри.
— И чтобы он ни делал, все только приходят в восхищение и превозносят его до небес. Судьба у него такая, что ли. Ты вспомни хоть историю с Перу: прославленный режиссер наплевал на успех, признание и деньги, которые сами шли в руки, ради какого-то заурядного и опасного репортажа не побоялся рисковать жизнью, вернулся домой со сломанной ногой и шедевром под мышкой.
Мизия, не отводя от меня глаз, вернулась к мойке за ложкой крема, я тоже сделал несколько шагов, чтобы дистанция между нами оставалась прежней.
— Разве я не прав? — продолжал я. — Он — всемирно известный режиссер, и он ничего не боится, даже кануть в неизвестность, но что бы он ни делал, его талант всегда останется при нем. Даже если он живет как хиппи и получает первую премию в Брайтоне из рук самой королевы, и вот пожалуйста, он даже галстук не надевает на церемонию.
Мизия смотрела на меня, подбоченившись.
— Ничего себе!
— Сдохнуть можно! — подтвердил я, но мне хотелось биться головой об стенку, так загорелись ее глаза.
— А мы с тобой с головой в буржуазном быте? — сказала Мизия. — Точно водолазы, которые ныряют под воду, подальше от возможных бурь?
— Вроде того, — ответил я. Я думал о том, что мы спустились на разную глубину, она и я.
— Только потом у них все равно кончается воздух, — сказала Мизия. — Корабли уходят — и связь с ними прерывается.
Она прошлась вдоль стены, двигаясь почти как в первом фильме Марко.
— И вот они стоят на дне, обвязанные грузами, — сказала она, — а дышать им нечем.
— О Господи, хватит, — сказал я с чувством, что и вправду задыхаюсь.
Мизия остановилась перед одним из шкафов; на секунду мне показалось, что она застыла на тонкой грани между той, какой была, и той, какой стала: между нетерпимостью и сдержанностью, между свободой и благовоспитанностью, между ребячливостью и зрелостью. Я напряженно вглядывался в ее лицо, следил за сменой его выражений, словно ожидая найти в нем ответ на все мучившие меня вопросы.
Потом она тряхнула головой; ее лицо разгладилось, дыхание стало спокойным, и она опять предстала элегантной и здравомыслящей сеньорой из высших кругов, матерью двоих сыновей. Ее внутренний свет померк, и я тоже расслабился.
Сразу после завтрака Мизия повела нас с Паолой и детьми смотреть сад. Она показывала, какие деревья росли здесь раньше, еще при отце Томаса, а какие она посадила сама; с веток над нашими головами вспархивали пунцовые чижи и другие птички ярких окрасок, из тени деревьев мы выходили на яркий свет и невольно щурились. Мизия знала названия всех растений в саду: и как они звучат по латыни, и как их называют в народе, она произносила их уверенно и восхищенно, словно гордилась этим своим столь непростым достижением.
— Когда я жила в Милане, я бук от платана отличить не могла, — говорила она, — пришлось начать с азов. Первые годы я читала все книги по ботанике, какие только удавалось раздобыть. Вот тюльпановое дерево, — упоенно, нараспев произносила она.
Паола кивала и даже улыбалась, когда Мизия на нее смотрела, но была напряжена, как струна — все это вызывало в ней явное отторжение. Возможно, она вспоминала наш дом в Ломбардии, возле автострады, где в саду торчали разве что какие-то сухие прутья, а чахлая трава тут же покрывалась инеем. И когда она сейчас шла рядом с Мизией, мрачная и надутая, она даже вызывала у меня умиление, но и раздражение тоже, и мне все хотелось встряхнуть ее и крикнуть, что пора ей прекратить притворяться.
За нами увязались три собаки, они то ластись к нам, то вдруг останавливались в нерешительности, видно, совсем отвыкли от хозяев за время их отсутствия. Дети пытались их погладить, гонялись за ними по коротко стриженной траве. Только маленький Ливио немного отставал от нас; своим сосредоточенным выражением лица он напоминал мне отца и всякий раз, как замечал мой взгляд, отворачивался, недовольный, что его изучают.
Мизия привела нас на поле, где стояли десятки небольших цитрусовых деревьев, пожелтевших и наполовину высохших.
— О, матерь божья, — воскликнула она и потрогала пальцами несколько засохших веточек, словно переживая за каждую из них.
— Их не поливали? — спросил я.
— Про них вообще забыли, — сказала она, продолжая разглядывать ряды малорослых полумертвых деревьев. — Не поливали, не пропалывали, не удобряли. Забыли и все. Это Пьеро должен был всем этим заниматься. Он затем сюда и приехал.
Мы походили по погибшей цитрусовой плантации; вокруг, до самого горизонта, все было плоско и голо, лишь километры травы да редкие кусты.
— Ты не представляешь, сколько времени я провела здесь, когда только приехала. Я считала, что вот тут граница нашего сада и ее надо как-то обозначить. Представляла себе, какая здесь будет красота, когда дети вырастут. Целыми днями делала чертежи, проектировала, — сказала Мизия.
— А теперь? — спросил я, пораженный тем, сколько надежд она, оказывается, связывала с этими чахлыми, засохшими деревцами и, вложив в них всю душу, потом бросила на произвол судьбы. Но я не разделял ее чувств; мысль о границе личной территории семьи Энгельгардт не вызывала у меня никакого умиления, скорее напротив, и сейчас даже солнечные очки Мизии стали меня раздражать.
Она все еще смотрела на обрубки цитрусовых деревьев:
— Не знаю. Земли здесь хоть отбавляй, но этой чертовой латифундией никто не занимается. Хотя вообще-то здесь красиво, и отдохнуть можно замечательно, на лошадях покататься, например, но если вдуматься — бред какой-то. Все овощи и фрукты мы закупаем, а здесь и климат прекрасный, и вода есть, могли бы все выращивать сами, тут столько людей живет, и все в страшной нищете. Главное — дело делать, просто и разумно, и все пойдет само собой.
— А никто ничего не делает? — спросил я.
Эти разговоры тоже меня злили: уж лучше бы она вела себя как нормальная латифундистка и наслаждалась тем, что приобрела, выйдя замуж.
— Сам видишь, — она развела руками, — все так привыкли к этим просторам, заброшенным и невостребованным: тысячи гектаров земли принадлежат одному хозяину и служат лишь пастбищем для коров, как сто или двести лет назад. И никто и пальцем не хочет пошевелить.
— А что можно сделать? — спросила ее Паола, словно хотела продемонстрировать опечаленной Мизии свой трезвый ум и самообладание.
— Например, выращивать цитрусовые, — сказала Мизия, опять показав на свои заморыши. — Если за ними ухаживать, и главное — поливать, они растут здесь прекрасно. Тут можно устроить огромные плантации, и земля не будет простаивать, и сколько людей будут задействованы.
— И что мешает? — спросил я, измученный солнцем и раздираемый противоречивыми чувствами.
— Да никто в этом не заинтересован и не хочет этим заниматься, — сказала Мизия. — Все наши землевладельцы ведут себя как потомственные испанские колонизаторы. Разграбили тут все, что могли, камня на камне не оставили. Вот теперь мы и пожинаем плоды. Кошмар какой-то.
— А немецкие землевладельцы? — спросил я, думая о разговоре с Томасом прошлым вечером: о том, как он смотрел на меня, как сидел, утопая в кресле.
— Да все они одним миром мазаны, — сказала Мизия. — Срослись со своими социальными масками и разыгрывают одну и ту же нелепую пантомиму.