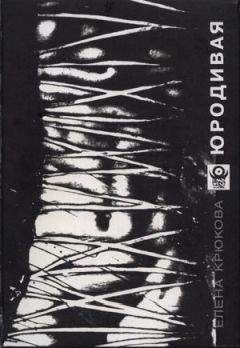Звезды колыхались и смещались. Спирали омуля вращались в разные стороны, били серебряными хвостами. Мороз тащил из озера белые сети, там билась рыба, она вываливалась из порванных ячей и билась об лед. И я билась головой о камень, об лед вместе с рыбой. Я рыба, я бессловесная тварь, я раздуваю жабры, я сейчас разобьюсь, я перестану думать, страдать, существовать. Исса. Тебя нет. Значит, и меня нет. Я омуль, а вот их тысячи плещется в сетях и на свободе. Я омуль, и я забыла имя свое. Я омуль, Исса, и я обвиваюсь вокруг Твоей стопы. Ты давишь меня ногами. Ты стоишь на мне, на рыбе, и смеешься. И я плыву с Тобой на себе, держу Тебя на своей спине, уплываю с Тобой в глубины черноты и зимы. И пустота раздвигается, впуская нас.
Я разлепила мокрые ледяные колючки ресниц. Я сподобилась еще раз увидеть Иссу.
Перед моим лицом проплыло круглое зеркало приблудной льдины. Поодаль, против утеса, поросшего стлаником и кедрачом, качался на густых маслено-леденистых волнах пузатый карбас. Оранжевой краской он был крашен когда-то, да вся она с него пооблезла, облупилась, и темные, изъеденные ветрогоном ребра досок выпирали наружу — голодом скитаний и нищеты. Мощно и смертно, ровно и неутешно дула, гудя, сарма. Палуба карбаса, кренясь и скрипя, протягивала на дощатой ладони навстречу идущему по водам Иссе двух рыбарей. Рыбаки скользили обутыми в унты ногами по сочленениям палубных костей. Искали, куда упереться ступней, за что ухватиться. Качало сильно. В раздутые ноздри, в виски хлестал волчий ветер.
Исса брел уже через силу, хоть легкость шага сохранял.
Я различила — закушены Его губы. Кровь брусничными брызгами окрестила подбородок. Кровь испятнала льдины, хрустко расходившиеся веером под Его ногами — закраины застылых плит резали нежные узкие ступни, вцеплялись в них когтями. Я все видела. Помочь не могла. Он шел к карбасу. Кричи не кричи — Его было уже не вернуть. Мимо меня Он опять прошел в жизни. И что теперь будет со мною?!
И почему у Него лицо Юхана, мужа моего лицо?!
— Петр!.. Иоанн!.. — крикнул Он слабо. До меня еле донесся Его голос. Он вскринул к рыбакам руки, замотался перед Его грудью обледенелый корабельный канат. Из последних сил крючьями обветренных голых рук Исса вцепился в него.
Два рыбака — старый, с серебряной бородой кольцами, лысый и загорелый до каленой черноты, и юный мальчишка, румянощекий, тонкошеий, глаза распахнуты шире клювов орущих птенцов, яблочный подбородок, запястья и кудри как у девушки, а лоб и губы в чешуе пота, — крепко ухватившись за конец сброшенного каната, потянули, надувая заплечные жилы… — ну, еще, еще, Господи, пособи!.. раз-два, эх! — тут и третий рыбак вывернулся из-за горой сложенной снасти, чернявый, смолянобородый, лишь белки глаз, смачно и страшно синея, блестели в ночи, — и вот, вижу, Исса уже на палубе, а карбас мотает и крутит нещадно, а эти мужики, рыбаки, смеются, а может быть, и плачут, пес их разберет; сильно блестят их лица, красные на морозе, и что-то такое суют Иссе в руки, в рот, — прищурилась и увидала насилу, сама от слез ослепла: в деревянной миске они Ему бруснику моченую подносят и стопарь наливают из громадной бутыли, а бутыль-то у Петра за пазухой была, в тулупе, он и опять ее туда прячет. А у Иссы руки окоченели совсем! Не шевельнет Он ими, только дует, дышит на них. А чернявый накидывает на плечи Иссе тулуп овчинный, обнимает Иссу за шею и целует Его.
И я вижу, как пьет Он водку и закусывает сахарной брусникой, и сердце мое сжимается в комариный комок, и я леплю губами белую глину снега: ОН ДОШЕЛ! ОН ПРОШЕЛ ПО ВОДАМ! ОН ПОБЕДИЛ!
Я видела как сквозь грязную линзу: губы Его, обмоченные водкой, шевельнулись, и я поняла, что Он сказал тихо: «Спасибо, Андрей…» А я лежу на камнях. На снегу. И кедры гудят надо мною. Что с ними со всеми будет? С Иссой, апостолами? Будут рыбу ловить? Продавать на зимнем рынке? Меня так избила сарма, что я вижу виденья. Крепко я избита. Жар у меня. Забинтуйте меня снегом. Заверните меня в марлю пурги, подкрепите меня Белой Водой, ибо я…
Китайскими снежными иероглифами расцветал берег озера.
Я лежала животом на залепках слежалого снега, и земля дернулась подо мной, как раненный охотником красивый и злобный зверь. Белесая мгла закрутилась перед глазами, высвечивая внутри первую неловкую и страшную страсть, последнюю гордую нежность. Я зажмурилась, чтобы не видеть, как черные, зацелованные сармой доски карбаса пойдут на дно. Гулкие колокола зазвонили надо мной. Я поплыла в холоде-звоне, оглушенная, переворачиваясь брюхом кверху, еле шевеля плавниками, меня убили ботаньем, меня вытащили сетью. Я поняла зазубренным, источенным краем сознания, что жабры мои сохнут без воды.
Исса прошел мимо меня.
А кого же я теперь позову из мрака.
Дзугасан, дзаласан-хан. Айя-ху. Айя-ху.
…а не послать ли нам ее на… — …доело возиться.
Я уже вылил на нее целое ведро воды. И ништяк.
Классно ее отделали на допросе.
Мастера!
На каковском языке она бормочет?..
Уж лучше бы материлась.
Баба слабая. Крыша поехала.
Побей ее по щекам. Сильнее.
Боюсь, выбью ей скулу. Или глаз. Ха! Ха!
У нее голова трясется. У нее глаза открылись.
Полундра, чесноки!.. У нее вместо глаз… вместо глаз… знаете что?!.. Видите!.. видите!.. Серебро!.. Рыбья чешуя!..
Да это Спиногрызка ей рваной фольги под веки насовала. Для смеху. Ха-а-а-а-а-а!
В лесу родилась елочка, в лесу она…
Е-е-елка! За ногу мать…
Вынь ей фольгу из-под век. У наших вертухаев не все дома.
А у твоих?! А у твоих?! У каждого свой личный вертухай, ведь так?!..
И свой личный кровосос, не забывай об этом.
Да, слабаки бабы. Поджилки у них никуда, у баб. Вот и эта сломалась. А крепкая с виду была.
Ее били по щекам. Ее жестоко и без перерыва били по щекам, и голова ее моталась туда-сюда. Ее волокли куда-то: сперва в один угол, затем в другой, тело корчилось на ледяной сковородке каменных плит. Обрывки разговоров мотались вместе с головой. Бесились красные флажки слов, смешков. Звон в ушах от битья — что они болтают?.. — Федьку выпускают завтра на волю — чемодан освобождается — все равно набьют икры в мешок — по тыкве дать гундосому да слинять через окно! — там решетки, барсук — как хочется пить, вместо горла наждак, вместо языка деревяшка — стой! на стреме!.. — в Багдаде все спокойно — а-а-а, живот — ты что, пирога с дерьмом обожрался, что ли — заставили из параши пожевать — так тебе и надо, шестерка — что вы таскаете Ксеньку взад-вперед — ну, загнется, и делу конец — дура, нам же потом новое дело пришьют — убийство в камере — еще один срок, пошел он впи… — …шут с ней, западло возиться, оставь!.. — жалко — у пчелки жалко — у пчелки жопка — а у тебя гроб с музыкой будет — ща, разбежался — я тебе отходняк и спою — а у тебя голос-то есть?.. — вот Ксенька очухается, она тебе и споет — прокудахчет — а я ей прокукарекаю — петух е… — …ду бы в лазарете стибрить бутылек — квасить будешь, чухонец?!.. — обожжешься, тля… — глотка ссохнется — да это ей синяки, раны помазать, дохлой курице, она же нас тут лечила — она?!.. нас?!.. лечила?!.. — и от чего она тебя вылечила, сыпной-брюшной?!.. — от меня самого…
Ее веки раздвинулись. Хлынул серый свет. Серые лица мельтешили над ее запрокинутым лицом, серые руки трясли ее. Кто-то в тельняшке наклонился — то ли баба, то ли мужик — и укусил ее за ухо. Серые зубы скалились, серые космы щекотали ее. Ей снился серый сон. Где Царь? Где Юхан? Она вертела головой беспомощно, лежа на каменных плитах, оглядываясь. Вот они, турьи рога, ее девственный головной убор. Да это просто серые тряпки, скрученные в жгут, валяются вблизи. Это плохой сон, и надо его избыть. Сгинь, пропади. Надо перекрестить серую тьму. Она не Исса. Но она перекрестит. Нет. Рука не поднимается. В руку впились серые когти, не пускают.
— Очухалась!.. Живучая, собака!.. Глянь, руку тянет!..
— Заключенная… на допрос!
Лязг двери. Цокот каблуков. Сапоги. Сапоги перед ее лицом.
— Кончай базарить, кореш, не видишь — она кончается!.. попика бы лучше тюремного прислал…
— Заключенная Ксения, встать!
— Не встанет… сука ты!..
— Носилки!
Ее подхватили под шею и щиколотки, тяжело перевалили на лягушачью кожу измазанных кровью носилок, как бревно. Потащили. В ярко освещенной каморке за дощатым столом сидели три человека — лысый, жирный и беззубый, меж ними на столе стоял петух, время от времени хлопал крыльями и кукарекал. Петух был вместо часов. По петуху узнавали время. Раннее утро, поздняя ночь. Люди за столом менялись. На смену жирному являлся жирный, на смену лысому — лысый. Ксении крикнули:
— Стоять!
Она упала. Стоять она не могла.
Ее подняли, облили ледяной водой из ведра, всыпали в рот порошок, снова крикнули:
— Стоять, твою мать!
— Моя мать в сырой земле. Я хочу к ней, — сказала Ксения беззвучно и снова упала.