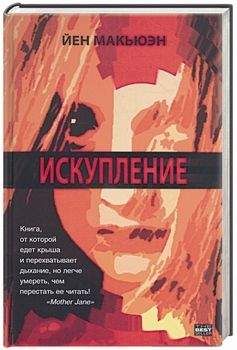– Он так крепко спит. Я не хотела его будить. – И добавила: – Я полагала, что вам лучше не встречаться.
У Брайони дрожали колени. Держась для уверенности за край стола, она посторонилась, чтобы дать возможность Сесилии наполнить водой чайник. Ей очень хотелось сесть, но без приглашения она никогда бы этого не сделала, а спросить разрешения ни за что не посмела бы. Поэтому продолжала стоять у стены, делая вид, что не прислоняется к ней, и наблюдать за сестрой. Что было удивительнее всего, так это то, как быстро облегчение от того, что Робби жив, сменилось страхом оказаться с ним лицом к лицу. После того как она увидела его, мысль, что его могли убить, показалась ей странной. Ведь это было бы лишено всякого смысла. Она смотрела в спину сестре, суетившейся на крохотной кухоньке. Брайони хотелось сказать, как замечательно, что Робби благополучно вернулся, Какое это избавление! Но это прозвучало бы банально. Она не имела права говорить такое. Она боялась сестры, боялась ее презрения.
Брайони продолжало тошнить, теперь у нее, похоже, еще и поднялась температура. Она прислонилась щекой к стене – камень оказался холоднее, чем ее лицо. Брайони до смерти хотелось пить, но она ни о чем не могла просить сестру. Сесилия ловко управлялась с делами, разбавляя молоко водой, размешивая яичный порошок, выставляя на стол банку с джемом, три тарелки, три чашки. Брайони это отметила, но ощутила еще большую неловкость. Это лишь усилило ее дурное предчувствие. Неужели Сесилия действительно думает, что в подобной ситуации они смогут сидеть за одним столом и, не теряя аппетита, есть омлет? Или она хлопочет, чтобы просто успокоиться? Прислушиваясь к малейшим шорохам за дверью, чтобы не пропустить момент приближения шагов, и испытывая потребность хоть как-то отвлечься, Брайони попыталась снова завязать разговор. Несколько минут назад, когда дверь спальни отворилась, она увидела на ее внутренней стороне сестринский плащ.
– Сесилия, ты, наверное, уже старшая медсестра?
– Да, – ответила та тоном, исключающим возможность развития темы: то, что у них одна профессия, не может служить поводом к сближению. Ничто не может. И до возвращения Робби говорить им не о чем.
Наконец из ванной послышался щелчок отодвигаемой задвижки. Робби что-то насвистывал. Брайони инстинктивно отпрянула от двери в темный угол комнаты, однако, когда Робби вошел, все равно оказалась в поле его зрения. Правую руку он держал на весу, словно для рукопожатия, левой закрывал дверь. Если он и посмотрел на нее, то ничего драматического в его взгляде не было. Но когда их глаза встретились, он опустил руки и вздохнул, словно переводя дух, при этом продолжая сурово смотреть на нее. Брайони, невзирая на охвативший ее страх, не могла отвести от него взгляда. Она улавливала легкий аромат его туалетного мыла. Ее потрясло, насколько он постарел, особенно впечатляющими были морщины вокруг глаз. «Неужели все это из-за меня?» – глупо подумала она. Может, и война виновата?
– Значит, это была ты, – сказал он наконец и плотнее придавил дверь ногой.
Сесилия встала рядом с ним, он смотрел на нее. Сестра точно и кратко изложила намерения Брайони, но не хотела или не могла скрыть сарказма в голосе:
– Брайони собирается всем рассказать правду. Однако прежде она хотела повидаться со мной.
– Ты предполагала, что я могу здесь оказаться? – спросил Робби, повернувшись к Брайони.
Она думала сейчас лишь об одном: только бы не расплакаться. В такой ситуации трудно было представить что-либо более унизительное. Облегчение, стыд, жалость к себе – она не могла понять, какое именно чувство, но оно охватило ее целиком. Удушливая волна поднялась к горлу, не давая говорить. Брайони сжала губы. Потом волна схлынула. Теперь она была в безопасности. Ей удалось сдержать слезы, но все же голос прозвучал жалким шепотом:
– Я не знала даже, жив ли ты.
– Если мы собираемся беседовать, может, лучше сесть? – предложила Сесилия.
– Не знаю, смогу ли я.
Он нервно отошел к другой стене, подальше от Брайони, прислонившись, сложил руки на груди и перевел взгляд с одной сестры на другую. Потом внезапно направился к спальне, но на пороге передумал, остановился и сунул руки в карманы.
Робби был крупным мужчиной, и комната, когда он в ней появился, казалось, стала меньше. В ограниченном пространстве его движения были скованными и нервными, словно он задыхался. Вынув руки из карманов, он пригладил волосы на затылке, потом уперся в бока, уронил руки вдоль туловища. Брайони не сразу поняла, что все эти лишние движения он совершает потому, что сердит, очень сердит, и как только она это осознала, он заговорил:
– Что ты здесь делаешь? Только не надо толковать мне о Суррее. Никто не мешал тебе туда поехать. Почему ты здесь?
– Я хотела поговорить с Сесилией, – ответила Брайони.
– Ах да! О чем же?
– О том чудовищном, что я сотворила. Сесилия подошла к нему поближе.
– Робби, – прошептала она, – дорогой… – Она положила руку ему на плечо, но он стряхнул ее.
– Не понимаю, зачем ты ее впустила. – И, повернувшись к Брайони: – Буду с тобой абсолютно откровенен: я разрываюсь между желанием сломать твою глупую шею или вытащить тебя за дверь и спустить с лестницы.
Если бы у нее не было опыта общения с ранеными, она бы умерла от страха. Но она уже видела, как в больнице от бессилия скандалили солдаты. В кульминационный момент приступа ярости было бесполезно пытаться урезонивать или успокаивать их. Надо было дать им возможность выпустить пар, лучше всего было стоять и слушать. Она понимала, что даже вопрос: «Мне уйти?» – мог обернуться провокацией. Поэтому смотрела в лицо Робби и ждала своего часа.
Он говорил, не повышая голоса, но в каждом слове ощущалось чудовищное напряжение:
– Можешь ли ты хоть отдаленно вообразить, каково там, в тюрьме?
Брайони представила маленькие окошки, расположенные высоко под потолком в толстой каменной стене, муки ада, как представляет их себе большинство людей, и медленно покачала головой. Чтобы сдержаться, она пыталась сосредоточиться на тех переменах, которые произошли в Робби. Впечатление, что он стал выше ростом, вероятно, создавалось от его военной выправки. Никакому студенту Кембриджа такая осанка и не снилась. Даже в нынешнем состоянии крайнего возбуждения он не опускал плечи и подбородок держал высоко, как опытный боксер.
– Нет, разумеется, не можешь. А когда меня посадили, ты испытывала удовлетворение?
– Нет.
– Но ничего не предприняла.
Брайони, словно ребенок, со страхом ждущий наказания, много раз пыталась представить себе эту встречу. И вот это случилось, а ей кажется, что ее самой здесь нет, что она, оцепенев, наблюдает за происходящим откуда-то издалека. Но она уже сейчас понимала, что когда-нибудь его слова нанесут ей глубокую рану.
Сесилия стояла рядом с Робби. Она снова положила руку ему на плечо. Он похудел, хотя казался теперь более сильным, его мышцы стали эластичными и упругими.
– Помнишь… – начала Сесилия, но он, стоя вполоборота к ней, продолжал свое:
– Ты считаешь, что я изнасиловал твою кузину?
– Нет.
– А тогда считала?
Она залепетала:
– Да, да и… нет. Я не была уверена.
– А что же помогло тебе теперь почувствовать уверенность?
Брайони колебалась, не желая, чтобы ее ответ выглядел попыткой самооправдания, желанием найти разумное объяснение, это могло взбесить его еще больше.
– Я повзрослела.
Робби уставился на нее, чуть приоткрыв рот. Он и впрямь изменился за последние пять лет. Непривычной была суровость во взгляде, глаза словно стали меньше, сощурились, а под ними появились отчетливые следы «гусиных лапок». Лицо выглядело уже, щеки ввалились, как у индейского воина. Робби отрастил короткие усы-щеточки по военной моде и был поразительно красив. Из глубины лет выплыло воспоминание: в возрасте десяти или одиннадцати лет она была страстно в него влюблена – то было настоящее наваждение, длившееся всего несколько дней. Потом, как-то утром в саду, она призналась ему в своих чувствах и тут же об этом забыла.
Она правильно сделала, что проявила осторожность: приступ гнева, еще недавно владевшего им, был из разряда тех, что избывают себя сами, постепенно иссякая.
– Ты повзрослела, – эхом повторил он и вдруг взорвался снова так, что она подпрыгнула от испуга: – Черт бы тебя побрал! Тебе восемнадцать лет. Сколько еще тебе нужно времени, чтобы окончательно стать взрослой? Чтобы сделать то, что ты обязана? Солдаты в восемнадцать лет погибают на полях сражений, они достаточно взрослые, чтобы оставаться умирать вдоль дорог. Это тебе известно?
– Да.
Брайони находила жалкое утешение в том, что он не знает, чего она навидалась в последние дни. Странно, но, несмотря на чувство вины, она ощутила потребность оказать ему сопротивление. Либо так – либо она будет окончательно сломлена. Тем не менее она лишь слегка кивнула, не посмев заговорить. При упоминании о смерти мощная волна чувств подхватила Робби, подняла над собственным гневом и ввергла в пучину замешательства и отвращения. Он тяжело, прерывисто дышал, беспрестанно сжимая и разжимая правый кулак, но продолжал смотреть на нее, смотреть прямо ей в душу с несгибаемой суровостью во взгляде. Глаза сверкали, он несколько раз громко сглотнул. Мышцы на шее напряглись. Он тоже изо всех сил старался не выдать своих чувств. В безопасности больницы Брайони видела лишь малую толику, крохи – почти ничего, но и этого оказалось достаточно, чтобы понять, какие воспоминания мучают сейчас его. Робби ничего не мог с собой поделать, эти воспоминания терзали его душу, не давали говорить, их невозможно было выразить словами. Ей никогда не узнать, какие картины проносятся перед его мысленным взором, вызывая смятение. Он сделал шаг ей навстречу, и она съежилась, вжавшись в стену, ибо не была больше уверена в его безобидности – если он не в состоянии говорить, он может начать действовать. Еще шаг – и вот он уже может дотянуться до нее жилистой рукой. Но в этот момент Сесилия проскользнула между ними. Стоя спиной к Брайони, она заглянула в лицо Робби и положила руки ему на плечи. Он отвернулся.