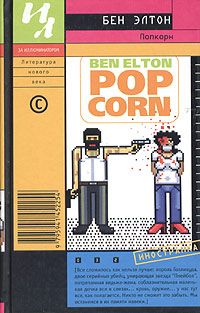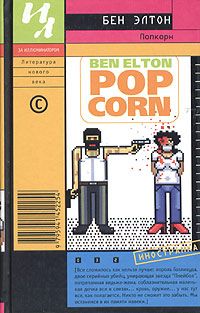Отто колебался. Вспомнились золотистые веснушчатые плечи и светлые кудри, перечеркнутые солнечным лучом. Груди, подрагивающие в такт движению руки с зубной щеткой. Рыжеватые волосы под мышкой.
И прошлая ночь. Нежданная вспышка хмельной страсти.
Зильке чертовски мила.
Но он любит Дагмар и обещал, что будет любить всегда. Герр или мистер, англичанин или немец, Пауль или Отто — под любым именем, вчера, сегодня или когда угодно он сдержит обещание.
Ранний завтрак
Лондон, 1956 г.
— В Роттердаме мы расстались. Зильке поездом вернулась в Берлин, а я на пароме отправился в Англию. Больше мы не виделись. — Стоун разглядывал темные воды Темзы в лунном свете. — Ни с ней, ни с остальными. Континент скрылся за горизонтом, а вместе с ним и вся моя жизнь.
Билли прихлебнула чай. Четвертая кружка за ночь. Они сидели и разговаривали. Появилась утренняя смена таксистов. По реке поползли баржи, ежедневно куда-то увозившие тонны лондонского мусора. Край неба налился бледно-серым светом.
— По визе Пауля я приехал в Англию и под его именем занял место в университете, которое ему выхлопотала мама. На гуманитарном факультете.
— И как там тебе?
— Не особо.
— Потому чтё не шибкий умник?
— Мучился месяца три. Я старался, правда. Ни черта не вышло. Благотворители ждали умного Пауля. Мальчика, из которого выйдет толк, который чем-нибудь отплатит за свое везенье. Подсобит в устройстве нового мира и все такое. А получили меня. Я считал себя виноватым.
Билли обхватила его за талию.
— Так вёт почему у тебя юридические учебники собирают пиль. Ты питаешься стать твоим брятом. До сих пор питаешься.
Стоун не ответил. Лишь теснее прижался к ней. Погрузился в эту душевность. Товарищество.
— Как же теперь тебя називать? — спросила Билли. — Ты Поль? Или Отто?
С минуту, а то и больше Стоун молчал.
— Наверное, я бы хотел зваться Отто, — наконец выговорил он.
— Ну вёт! — Билли чмокнула его в щеку. — Неужель так слёжно?
— Вообще-то сложно.
— Тогда скажи, Отто… — начала Билли.
Стоун вздрогнул.
— Извини, — сказал он. — Впервые за семнадцать лет.
— Скажи, Отто, почему ты виноватый? — Билли положила голову ему на плечо. — Все придумаль Пауль.
— Да, конечно. Но все равно казалось, что я недостоин этой жизни. Судьба уготовила мне погибнуть солдатом, но Паули ее обхитрил. Обманул ее и умер сам. Мама, папа, Пауль. Все умерли. Лучшие Штенгели. И только приемыш выжил.
— Дюмаешь, они би с тобой согласились?
— Нет. Конечно, нет.
— Тогда уважяй их память, — сказала Билли. — Знаешь, что еще я дюмаю?
— Что?
— Неплёхо бы найти сортир.
Под руку они пошли к мосту, где был общественный туалет.
— Как рёмантично, да? — засмеялась Билли. — Чаем обпилясь.
Всерьез занимался рассвет, темное небо стремительно светлело. Однако спать не хотелось.
— Бессонный ночь мне нипочем, — сказала Билли. — В колледж я лючшая, даже когда сплю, и все это зняют.
— Ни капли не сомневаюсь, — ответил Стоун.
— Тогда давай слегка позавтрак.
Найти кафе было нетрудно. Работяги утренней смены, ранние пташки, шли вперемешку с припозднившимися ночными гуляками. За пластиковыми столиками мужчины в комбинезонах и спецовках соседствовали с денди в смокингах и девицами в жемчугах. И те и другие уминали яичницу.
В забегаловке у моста Ватерлоо нашелся свободный уголок; Стоун и Билли взяли яйца, фасоль, тосты и еще чаю.
— Такая ночь по мне. — Билли радостно оглядела пиршество. — Не считая дряки.
— Если что, я снова врежу, — пожал плечами Стоун. — Такое у меня правило.
— Да, ты говориль. Ну лядно, ты в Англий, учишься. Что потом?
— Да в общем-то, и все.
— Нет, рассказивай.
— Ну, значит, какое-то время проваландался в универе. Мне делали кучу поблажек — мол, иностранец, надо обвыкнуться и все такое. Потом уже стали недоумевать, но тут началась война, и меня как враждебного чужака интернировали.
— Да? — удивилась Билли. — Еврея?
— Поди разберись, кто есть кто. Интернировали всех. Я не роптал. Англичан можно понять. В конце концов, я же не еврей. Я немец, прикативший под чужим именем. И я ни капли не сочувствовал всяким нытикам — ах, нас интернировали! Англичан-то и самих приперли к стенке.
— Но зато удалёсь слинять из университет?
— Нечаянная удача, — усмехнулся Стоун. — Но скоро нас выпустили, и я прямиком пошел в армию. Вот так получил британское гражданство. После Дюнкерка англичане были рады любой подмоге.
Билли вытряхнула бурый кетчуп на яйцо.
— Наверьное, тебе било одинок.
— Не то слово. Шибко одиноко. Но я не хотел заводить друзей… я вроде как…
— Упивалься этим?
Стоун рассмеялся, намазывая тост джемом «Голден Шред».
— Наверное, можно и так сказать.
— Да, у тебя бил веський повод, малиш. Не срявнить с другие. Из дома вести не получаль?
— Нет. Наверное, в начале войны можно было бы связаться через Швейцарию, но Пауль решил, что мы столько наврали — безопаснее держаться врозь. К тому же гестапо просматривало всю зарубежную корреспонденцию.
— А брят с тех пор стал ты? Отто Штенгель, випускник «Наполя»?
— Точно. Зильке привезла ему мои документы. Пауль отыскал умельца, заменившего фото. Ты не представляешь, сколько тогда ходило фальшивок. Многие хотели избавиться от клейма «Ю». В общем, все было просто. Все координаты и семейная история остались прежними. Я закончил «Напола», но еще не вступил в вермахт. Брат пошел вместо меня.
— А если б он встретиль твой знакомый?
— Пауль считал, это маловероятно. Я же три года жил в интернате. Многие мои однокашники были иногородние. Их призывали по месту жительства, почти все стали офицерами. В вермахте уже было свыше миллиона солдат, добавлялись миллионы новых. Брат решил, что его не засекут.
— Ню и ню! — Билли тихонько присвистнула. — Лихой парень, а?
— Да уж. Лихой.
— Его ждаля учеба в Англия, а он бабах — и в верьмахт! — поразилась Билли. — Все бросиль и пошель в немецкая армия. Еврей! Вы оба всем пожертвоваль. Господи, ваша Дагмар, наверьное, и впрямь била нечто!
— Да, Билл. Она была нечто.
— Либо вы — два полёумных влюбленных дюрака.
Какое-то время оба молча ели. Хлебной корочкой Билли ловко подтерла желток — хоть не мой тарелку.
— И теперь ты ее находить? — спросила Билли, проглотив последний кусок.
— Что?
— Дагмар. Брось, По… Отто. Я поняля, зачем ты в Берлин.
Взгляд Стоуна затуманился. Он чуть сморщился, словно от боли, и печально улыбнулся:
— Дагмар умерла, Билл. В войну погибла. В Берлине я с ней не увижусь.
Из нелюди в сверхчеловеки
Берлин, 1940 г.
— Штенгель! Шаг вперед!
Дюжина солдат в мышастой форме сидела на лавке. Капрал Штенгель встал и шагнул вперед.
— Родословную! — гавкнул штурмшарфюрер СС.
Пауль, ныне в форме армейского обер-ефрейтора, подал документ. Жизненно важный, подтверждавший арийскую чистоту трех поколений предков.
Фельдфебель изучил бумагу.
— Тебя зовут Отто Штенгель?
— Так точно, господин штурмшарфюрер!
— Был усыновлен?
— Так точно, господин штурмшарфюрер!
— Евреями?
— Так точно, господин штурмшарфюрер!
Ответ четкий и громкий. Никакой слабости. После года в немецкой армии понимаешь, что здесь уважают только силу.
— А что кровная родня?
— Родители умерли. Дед с бабкой от меня отказались. Моей семьей были евреи, господин штурмшарфюрер!
Пауль спиной чувствовал удивленные взгляды прочих соискателей. В Главном управлении безопасности на Принц-Альбрехт-штрассе побывало много выходцев из еврейских семей, но еще никто из них не заявлял о желании вступить в войска СС.
— Эсэсовец, воспитанный евреями. — Фельдфебель подозрительно сощурился. — По-моему, такого еще не случалось.
— Мне было менее часа от роду, господин штурмшарфюрер! — отчеканил Пауль. — Я не виноват. В моих бумагах сказано, что потом я закончил «Напола».
Фельдфебель усмехнулся — забавная ситуация.
— Евреи тебя эксплуатировали? Пахал на них, как Золушка?
— Никак нет. И кровь мою никто не пил. По правде говоря, ко мне хорошо относились.
— Защищаешь? Обеляешь расовых врагов? Тех, кто тебя украл?
— Никак нет.
— А почему, собственно? Они же твоя семья. Сам говоришь — добрые.
— Потому что они — вонючие жиды и кровные враги отечества, господин штурмшарфюрер! Младенцем я этого не знал, но теперь знаю, ибо так говорит наш фюрер.
Эсэсовец вновь глянул бумаги:
— Ты служил в Польше?
— Так точно, господин штурмшарфюрер!
— Поразвлекся?