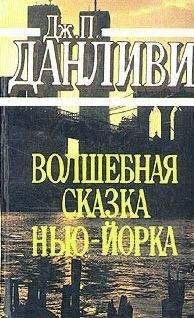Сворачиваю налево, на мощеную булыжником дорогу. Взбираясь на вершину холма вдоль трамвайных путей. Снова налево между высокими и прямыми, тесно растущими ильмами. Знавал я когда-то здесь одно заведение. По усыпанной шлаком дорожке спускаюсь к автомобильной стоянке. Рядом со старым, но гостеприимным ресторанчиком. С фабричными окнами. И целительной атмосферой. Сюда мы рука в руке войдем с Шарлоттой и усядемся за накрытый белой скатертью стол. Я уже вижу его сквозь листву на расположенной ниже террасе.
Корнелиус Кристиан стоит на верхней ступеньке зеленой лестницы, ведущей от входа вниз. Листья пальм колеблются, когда под ними пробегают туда-сюда официанты, задирая носы, презрительно морщась и удивленно приподнимая брови. Мажордом с пренебрежительной миной указывает нам на столик. Одиноко стоящий в дальнем углу. Садимся на железные, белые филигранной работы стулья. Безмолвие и прохлада. Сукин сын лакей уставился на мои полуботинки. Демонстрирую ему полную непринужденность. А Шарлотта совсем сражена. Оскорблением, нанесенным мною приличиям.
— Разве тебе не известно, что персиковый цвет считается высшим шиком.
— Нет, не известно.
— Я стану зачинателем новой моды.
— Но на нас все смотрят.
— Я думал, тебя обрадует возможность выйти со мной на люди.
— Она меня обрадовала. И сейчас радует.
— Мне в этих туфлях легко и удобно. Я ими даже горжусь.
— Мы сидим и никто к нам не подходит. Нас просто игнорируют. Слышишь, в другом зале смеются люди в дорогих нарядах. Мужчины в черных туфлях, темных галстуках и белых рубашках. Все такие парадные. И официанты увиваются вокруг них.
Лоб Шарлотты Грейвз собирается в озабоченные волнистые складки. Один из лакеев притаился за колонной. Приглаживает зачесанные назад волосы на лысеющей голове. Осторожно выглядывает. Кристиан поднимает руку. Изящно щелкая пальцами. И видит, как ноздри ублюдка расширяются в глумливой ухмылке. Ублюдок разворачивается и удирает, словно у него подметки горят. И дурацкая рука моя застревает в воздухе.
— Понятно. Игнорируют. Можно подумать, что я украл эти туфли. В которых сейчас нервно сжимаются мои ступни. Знаешь, прежде тут была фабрика. В лесной глуши. Тех, кто восставал против установленных здесь порядков, травили сторожевыми собаками. И между столиками взад-вперед разгуливали полицейские с дубинками.
— Корнелиус, это наш первый настоящий вечер вдвоем. Может быть, поедем в другое место. Я надела мое лучшее платье. Оно принадлежало еще моей бабушке. Бабушка в нем венчалась. Я только подол подрезала. Ты не думай, я не против твоих туфель, просто мне здесь не нравится. И я не хочу, чтобы на нас все глазели.
— Ты дитя, Шарлотта.
— Какое там. Я себя чувствую не в своей тарелке. И ничего не могу с собой поделать.
— Не позволяй этим лакеям тебя запугать.
— Нас ведь могли провести в другой зал, где играет музыка, люди танцуют. А тут ничего нет.
Кристиан стремительно оборачивается ко входу в кухню, из которой снова высовывается лакей, и тот столь же стремительно скрывается за скрипуче качнувшейся дверью буфетной.
— Скотина.
— Видишь, как они с нами обходятся. Нам даже меню не подали.
— Сомнения по части моего вкуса вполне очевидны. Хочешь, я спрячу ноги под стол.
— Теперь уже поздно. Они к нам не подойдут.
— Мы подождем. Улыбнись.
— Не могу.
— Шарлотта, у тебя такой красивый рот. Такие большие зубы. И такая тревога на лице. Из-за моих туфель. Помнишь лето, когда мы были детьми. Пикник и парад в День Труда. Я увидел, как ты выходишь из дому в белой шелковой кофточке, и с такой же, как сейчас, копной волос на голове. Ты крикнула мне, привет, с радостью, какой я за всю мою жизнь ни в ком не вызывал. Я и сейчас слышу твой крик. Он даже заставил меня пойти на парад со всеми, хотя нет, вру. Я прятался за деревьями, воруя для братишки мороженое, пока граждане нашей страны маршировали на параде. Ты такое дитя. Мои туфли свидетельствуют о дурном вкусе. Мои туфли свидетельствуют о дурном вкусе.
— О господи, прошу тебя, не надо кричать. Я ничего не имею против твоих розовых туфель.
— Персиковых.
— Персиковых. Только давай уйдем.
— Нет.
— Ну, может быть, попросим чего-нибудь.
— Попросим у них прощения. Я — за туфли, которые стоили, вероятно, долларов восемнадцать.
— Да нет, Корнелиус, всего лишь, чтобы они подошли и занялись нашим столом.
— Увы, мне, как видно, придется смирить мою гордыню.
— Корнелиус.
— Какое у меня красивое имя.
— Мы ведь с тобой происходим из одного класса. Мы люди средние, ничем не замечательные. Я хочу сказать, что мы не можем быть уверены в том, что всегда правы. Потому что существуют люди получше нас.
— А мы, стало быть, похуже.
— Мы, может, и лучше других. Но не самые лучшие, я только это хотела сказать.
— Шарлотта, какая ты была загорелая и красивая на параде в честь Дня Труда.
— Ну не надо, Корнелиус, я просто не хочу, чтобы важные люди смотрели на нас и думали, что нам с ними никогда не сравняться.
— Ты помнишь наше первое свидание. Как я угощал тебя содовой после кино. С каким апломбом я это проделал. Как я сказал продавцу в кондитерской, две с ананасовым сиропом, пожалуйста. Я был покупателем. И он был мне рад.
— Потому что ты был милый.
— А теперь я какой.
— Ты изменился. Ты не тот Корнелиус Кристиан, какого я знала когда-то.
— Так кто же я.
— Ну, просто ты не такой, каким был до отъезда в Европу. И до твоей…
— До моей женитьбы.
Шарлотта Грейвз. Ее профиль. Тревога на длинном, прекрасном, как спелое яблоко, лице. Когда она оглядывается вокруг. Две головы, шустро присев, скрываются за краем окружающей нас пустоты.
— Прошу тебя, Корнелиус. К нам начинают прислушиваться.
— Это радует.
— Ты сказал, что я была загорелая и красивая на параде в День Труда. Теперь я тебе такой не кажусь.
— Ты попрежнему похожа на яблоко, которое я бы с наслаждением съел.
— Я этим летом совсем не плавала. Когда работаешь в городе, просто возможности такой нет. Но зато позагорала последние несколько дней. Чтобы сегодня поехать с тобой за город и вообще.
Кристиан берет солонку. Серебряную, тяжелую. Лупит ей по столу и кричит.
— Обслужить. Обслужить.
— О господи, Кристиан, вот уж этого я от тебя ожидала меньше всего.
— Я только хочу, чтобы нас обслужили. Обслужить.
Выглядывают лакеи. В крахмальных рубашках с широкими крыльями воротничков. Галстуки-бабочки размером с аэроплан, того и гляди взлетят. Разбежавшись по полосе. И помчат ужин людям, привыкшим швыряться деньгами. Пока голос Кристиана будет эхом прокатываться по длинному коридору. Голова Шарлотты Грейвз клонится вниз.
— Ты окончательно испортил наш вечер. Никто еще не позволял себе такого в моем присутствии.
— Ты хочешь, чтобы я ушел.
— Ты же знаешь, я этого не хочу.
— Вот и хорошо.
— Чего уж хорошего. Ты так надменно себя ведешь.
— Так ты хочешь, чтобы я ушел. Хочешь. Скажи. Ты хочешь, чтобы я ушел.
— Да. Уходи.
Усталый голос, почти что шепот Шарлотты Грейвз. Страдальческий и печальный. Запах надушенной чистоты. Там, в похоронном бюро, я мог нюхать розы задаром. Холодный сладковатый парок, вылетающий из холодильников. Когда начинается ферментация, мертвые слегка согреваются. Фотография, на которой я покоюсь в гробу, теперь стоит, обрамленная, рядом с моей постелью. И худшее, что может случиться со мной, теперь не кажется таким уж плохим. Еще живой, я встаю. Проявляя воспитанность, жду. Даю ей шанс отсрочить исполнение приговора. Она не нуждается в нем. Мягко задвигаю свой стул под столик. Прохожу, почти касаясь метрдотеля. Распрямившего спину, чтобы по-над крючковатым носом как следует разглядеть мои персиковые полуботинки. Пока он покачивается на каблуках своих собственных.
Кристиан поднимается по лестнице, устланной бледно-зеленым ковром. С установленными вдоль нее лакеями в темных регалиях. Один справа, один слева. Через руку у каждого полотенце. Достигаю верхней площадки. Если я когда-либо испытывал необходимость испустить громовые ветры, так именно сейчас. Но испускаю лишь слабый писк. Вместо гула. Который бы плавно поднял меня и унес на реактивной струе от нового нанесенного моей душе оскорбления. Важно, оказывается, что о тебе думают люди. А они думают о тебе хорошо. Когда думают. Что если ты не желаешь пошевелить пальцем, чтобы их пристрелить. Значит, ты готов валяться у них в ногах.
Корнелиус Кристиан стоит под невидано звездным небом. На вершине холма. По рельсам проносится, грохоча, залитый светом трамвай. Холодный воздух пахнет морозцем. Лето кончилось. Игры, в которые мы играли на задних дворах. Засовывая монетки в щелку у нее под платьем. В них теперь уж не поиграешь, теперь она выросла и стала красивой. Сам готовил себе бутерброды к школе, с ореховой пастой и джемом. А приемная мать приглядывала, чтобы я не резал хлеб слишком толсто. И никто никогда не водил меня в ресторан. Я полагал, что это такое особое место, куда пускают одних богачей. Мне в него не попасть. И вот оставил ее. А путь отсюда без маминой машины неблизкий.