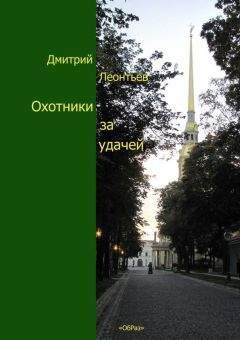— Для обеда на скорую руку — неплохо. А вот за ужин я возьмусь куда обстоятельнее. Если не ошибаюсь, в универсаме появилась живая рыба? Григорий, вечером тебе предстоит отправляться за форелью. Придется еще раз совершить прогулку: ничего не попишешь — форель должна быть свежей. Фаршированный картофель, белое вино и… А, придумаю что-нибудь потом…
— Какой странный кофе? — удивилась Лариса. — Мне казалось, что я перепробовала много видов, но это…
— Помои вы пробовали, дорогая моя, — посочувствовал ей Лихолит, — А это — самый настоящий кофе. Каким он и должен быть. Каппучино. Был раньше такой монашеский орден — Капуцинов, и частью их одеяния являлся белый конусообразный капюшон. Вот по ассоциации пены с этим капюшоном и получил свое название этот дивный напиток. А то, чем вас поили до этого — всего лишь помои. Видел я, как готовится в наших кафетериях кофе по-турецки. Когда мне попытались подсунуть эту мерзость, я надел повару джезве на голову. Верх, на который мы можем рассчитывать в наших «забегаловках», — это слабая пародия на эспрессо… Но и это — помои. А я не люблю подводить свой организм, напичкивая его этой дрянью. И мой благодарный организм, в свою очередь, старается не подводить меня…
— Это уж точно, — заметил Сидоровский, — И вчерашний вечер тому подтверждение… Как вам удалось сбежать из ловушки на квартире Врублевского?
— А кто сказал, что я оттуда сбежал? — удивился Лихолит. — От кого там было бегать? Котята слепые, а не мужчины… Ах, какие раньше были противники! Проигрывать было не стыдно! А теперь? Тьфу! Щенки!.. Захожу в квартиру, а они…
— Они оставили дверь открытой?
— Почему? Дверь была заперта, как и положено. Замок старый, раздолбанный, я открыл его в лучших традициях бульварных романов — булавкой. Если бы я понял, что там никого нет, я бы и входить не стал, но они сопели так громко, призывно, так заманчиво… И я решил войти. Не успел я переступить порог, как эти два раздолбая в меня пистолетами тыкать начали, и вопросы были какие-то идиотские, и угрозы — смехотворные… Одним словом, сразу видно — котята. Я их сначала даже обижать не хотел — жалко стало младенцев. Просто они меня оскорбили потом. Сейчас, говорят, старпер, мы тебя пытать будем. Я их спрашиваю: а что такое «старпер»? Они говорят: старый пердун в сокращении. Я им отвечаю: я не «старпер», я — «суперстар», без всяких сокращений. Они спрашивают: а это что такое? Я отвечаю: безусловно, «стар», но еще очень «супер»… Ну, и замочил их, чтобы больше не обзывались.
— Насмерть? — широко распахнула глаза Лариса.
— Милая моя, а я «не насмерть» не умею, — признался «суперстар». — Правда, перед этим подробнейше узнал у них обо всех последних событиях. И про инцидент по «захвату сфер влияния», и про Бородинского, и про трагедию на даче, и про беднягу бомжа… Кстати, его настоящая фамилия — Бабушкин. Юрий Николаевич Бабушкин. Я, когда диспетчер передал мне информацию от какого-то «Толстяка», сначала поехал по указанному адресу… Но там уже вовсю орудовала милиция. Я покрутился, узнал все, что можно было узнать, и прямиком направился к моему другу детства Ключинскому, — он церемонно поклонился Григорию Владимировичу, — Ну, а дальнейшее вы знаете…
— И они вам все так легко рассказали? — не поверил Сидоровский. — И про Бородинского, и про дачу?.. С чего бы это вдруг?
— А я на них испробовал те методы, которыми они мне грозили, — пояснил «суперстар». — Грязные и примитивные методы, но для их убогого воображения — верх инквизиторского искусства… Ах, разве так пытают?! Вот раньше пытали, так пытали! А это… Тьфу!
Устенко поперхнулась кофе и закашлялась. Ключинский поспешно похлопал ее ладонью по спине и укоризненно посмотрел на шкодливо улыбающегося «суперстара»:
— Зачем ты людей пугаешь? Мог хотя бы за столом удержаться от своей привычки шокировать людей…
— Да разве же я пугаю?! — искренне изумился Лихолит. — Вот если бы я начал рассказывать о славных годах мой юности, прошедших в НКВД — тогда да, тогда у них даже обед в желудках залюбопытствовал и полез посмотреть, кто это такие веселые байки травит.
— Ох, Николай, Николай, — только и вздохнул Ключинский.
— А что здесь такого? — пожал плечами Лихолит. — Подумаешь… Кстати, Григорий, друг мой, ты знаешь, что я стал отъявленным коммунистом?
— Если мне не изменяет память, ты и состоял в партии, — сказал Ключинский.
— Так то была чистая формальность. Нельзя было работать в моей конторе и быть беспартийным. Я и не раздумывал никогда над этим. Коммунист, и коммунист. Хоть горшком называйте, только в печь не ставьте и работать не мешайте. А теперь я из принципа налево и направо заявляю, что я — коммунист. Это сейчас так весело! И как только какой-нибудь псевдодемократ войдет в пик своей истерии, я ему так ласково-ласково сообщаю, что я был еще и «палачом НКВД»… Это надо видеть! Словами это не передашь!.. Костенеющим языком начинают лепетать, что, в принципе, во времена социализма и хорошего было немало, и рост экономики был необычайно высок, и в космос мы первыми полетели, и в науке гигантские достижения делали, и о всеобщем равенстве и братстве мечтали, и что войну выиграли, и моральные ценности были не то что сейчас, а «перегибы на местах» — так они сейчас куда чаще, чем тогда, встречаются… Ой, да много чего вспоминают. И это так интересно!
— И зачем тебе все это нужно? — вздохнул Ключинский. — Когда-то ты возмущался моей терпимостью к «палачам и цареубийцам», называл революцию «бунтом» и даже бегал по инстанциям, когда меня пытались посадить…
— Я говорю только то, что думаю. Я — примитивный человек, Григорий… Но в политику я никогда не лез. Зато в своем деле был профессионалом высшей пробы. Сейчас таких уже не производят. Обмельчал народишко. И котята слепые, а не волки… А почему… Проституток от политики я ненавижу. Ты хочешь сказать, что то, что сейчас творится — демократия? Проституция это. Между «демосом» и «кратией» — каменная стена стоит. И «кратии» насрать на то, что хочет «демос». Просто большинство коммунистов-проституток стали называться демократами. Помню я, как эти партийные бонзы партбилеты перед кинокамерами журналистов рвали. Их кто-нибудь насильно в партию тащил? Уговаривал, заставлял, упрашивал, угрожал? Нет, даже наоборот, еще и не всех принимали. Они один раз предали, и другой раз предадут. Проститутки и есть.
— Да зачем? — воскликнул Ключинский. — Зачем дразнить дураков? От этого нет никакой пользы.
— Зато есть удовольствие, — заметил Лихолит. — Мне это нравится. Я не ангел. Я — здоровый, обаятельный, удачливый, сильный и нахальный мужик. И проституток от политики не люблю. И дураков не люблю. И подлецов не люблю. Зато очень люблю, когда им плохо. В каждом человеке есть частичка… м-м… частичка Ключинского, частичка Лихолита, частичка Врублевского, частичка Филимошина. И каждый растит в себе ту частичку, которая ему больше нравится. Ты выращиваешь Ключинского в себе, а я вытравливаю Филимошиных и Шерстневых — в других. Но я не могу вырезать из себя Лихолита. Ну, нравится он мне. Это такая обаятельная, милая старая сволочь… Просто до обаятельного отрицательный персонаж. И ничуть не стыжусь этого. Я уверен, что прав, и готов защищать свою позицию до последнего.
— То-то и плохо, — сказал Ключинский. — Нельзя победить зло его же методами… Ты приехал очень не вовремя. Боюсь, что ты втянешь ребят в беду.
— А я все время нежданный гость, — сказал Лихолит, — Но не «незваный». Меня зовут убитые. И чтобы успокоить их, выполнить их просьбу, отомстить их убийцам и защитить их детей — приезжаю я…
— Нельзя отнимать у людей шанс на раскаяние и спасение. Даже пророки приходили не к праведникам, а к грешникам. К таким, как ты, в том числе… Ты веришь в Бога?
— М-м… Наверное — да… Да, верю. Но не в религию.
— Так что же ты скажешь, когда предстанешь перед Ним?
— Извините, ошибся дверью. Кажется, мне несколькими этажами ниже.
— А если серьезно?
— Если серьезно, — в глазах Лихолита явственно полыхнул огонь, — если серьезно, то и после смерти я пойду туда, где собираются подлецы. Муки ада? Хе… Это — «цветочки» до тех пор, пока туда не пришел я. Вот когда приду я, тогда и начнется настоящее веселье! Я не оставлю их и после смерти. Я буду преследовать их по всем кругам ада, придумывать самые страшные пытки и мучить их так, как не снилось ни одному садисту! Не будет им спасения ни под землей, ни в пламени! Нет во мне милосердия, Григорий. К ним — нет! Можно назвать меня маньяком, палачом и садистом. Я и есть маньяк, палач и садист. Я готов пилить ржавой пилой глотку Гитлеру, сажать на кол Чикатило и снимать кожу с Иртышева… Нет, в аду меня привлекает «компания». Я — компанейский человек, Григорий. Со мной они не соскучатся. Я заслужил это право, Григорий. Я не проповедую свой образ жизни и не сужу никого — на это у меня прав нет, но на месть у меня право есть, и я его никому не отдам…