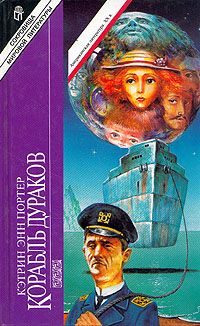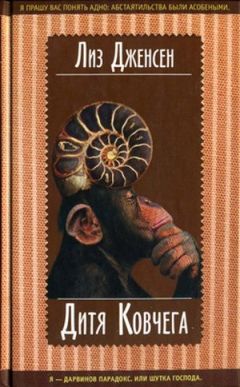— Я ведь и сама себе поразилась, — сказала миссис Тредуэл, — и, возможно, вы правы, осуждайте меня сколько угодно. Но сейчас вы облегчили мне задачу, так вот, откровенность за откровенность: да, вы и тут правы — мне надоела вся эта история, не желаю больше про нее слышать, не желаю расстраиваться по такому поводу, хватит с меня ваших разговоров.
Она встала, отошла на несколько шагов и обернулась — может быть, он еще что-то скажет? Пускай последнее слово останется за ним, он имеет на это право. Внутри у нее все дрожало от негодования; противно было смотреть на его лицо, окаменевшее в себялюбивом, вызывающем сознании собственной праведности.
— От всего сердца, — повторил он. — Да у вас нет сердца. И вы не понимаете, что происходит. Дело не в одном этом случае, нет, всю жизнь так, во всем мире так, и никакой надежды, что когда-нибудь это кончится… Любишь женщину больше всего на свете, и у тебя на глазах ее втаптывают в грязь ничтожества, которые подметки ее не стоят! Видели бы вы ее, так поняли бы, про что я говорю. Миссис Тредуэл, она такая хрупкая, чуткая малютка, вся золотистая, по утрам она особенно хороша и весела, и она такая чистая душа, она все преображает вокруг как по волшебству. Когда она заговорит, точно птичка поет в ветвях!
Он подступил к ней почти вплотную, так близко, что она опять ощутила на лице его дыхание, и говорил с огромной силой, черты его страдальчески исказились, на глазах блестели слезы. Миссис Тредуэл, захваченная врасплох так внезапно, против воли, сдалась, на минуту прониклась его чувствами, ощутила его неподдельное, жгучее страдание, поняла, как она виновата, и приняла в наказание долю не только этой муки, но и всей неохватной, безымянной, бесконечной человеческой скорби, какая обратилась бы к ней с укором и обвинением. Она отступила на шаг, бессильно уронила руки вдоль тела. Да, конечно, она виновата.
— Не надо! — сказала она. — Не говорите, довольно. Послушайте меня. Послушайте минутку. — Она тяжело перевела дух. — Я хочу, чтобы вы меня простили, слышите? Постарайтесь меня простить!
Теперь уже его вдруг перевернуло, он был тоже застигнут врасплох, неприятно поражен. Перед тем он даже наслаждался их столкновением, хорошо было дать выход бешенству, излить на эту женщину все, что накипело в душе, он хотел оскорбить ее, исхлестать словами, утолить жажду мести, не слушая никаких возражений. И вдруг, против воли, ощутил жаркий порыв великодушия.
— Нет-нет, пожалуйста, не говорите так, — сказал он почти смущенно. — Я тоже виноват. Если мы будем продолжать в том же духе, нам придется прощать друг другу…
— Знаете, что самое ужасное? — дрожащим голосом вымолвила миссис Тредуэл, — Мы говорим так, будто все это и вправду существует, и, наверно, так и есть, а мне все кажется, что это страшный, отвратительный сон, я просто поверить не могу…
— Но это вполне трезвая реальность, — сказал Фрейтаг, и ему захотелось ее утешить. — Да вы, кажется, сейчас заплачете?
— Какие пустяки, — самым обыкновенным своим тоном заметила миссис Тредуэл. — Я никогда не плачу.
Она попробовала было засмеяться — и разразилась бурными, неудержимыми рыданиями. Фрейтаг, как человек женатый, привычный к неожиданным женским порывам, быстро оглянулся — не появились ли в маленькой гостиной непрошеные свидетели, стал спиной к двери, чтобы загородить плачущую, если кто-нибудь войдет, и подал ей большой полотняный носовой платок.
— Ну-ну, — успокоительно приговаривал он, пока миссис Тредуэл утирала глаза и сморкалась. — Вот так-то лучше. И знаете что? Не пойти ли нам с вами и не выпить ли по стаканчику хорошего коктейля?
— Одну минуту, — попросила миссис Тредуэл.
Она достала из сумочки зеркальце, пудру и губную помаду и впервые в жизни накрасилась и напудрилась прилюдно. При одном ли свидетеле или при целой толпе — это одинаково предосудительно. А ей уже все равно. Она изнемогла, обессилела и в то же время успокоилась; отвратительны такие вот мелодрамы, всякие сцены — пошлость, безвкусица, а Фрейтагу доверять нельзя, он явно по природе своей склонен разыгрывать сцены… однако же (как бы оно ни получилось, и даже сейчас ясно, что это ненадолго) на душе вдруг стало необыкновенно легко… Почти беспечно, словно бы махнув на все рукой, она сказала:
— С удовольствием выпью коктейль, да порцию побольше!
И они вышли в коридор, словно добрые знакомые, исполненные любезности и взаимного благожелательства.
— Не знаю, сумею ли я уснуть сегодня ночью, — сказал Фрейтаг. — Меня преследует одна мысль: забавно было бы стащить эту крысу капитана с мостика и швырнуть за борт. Но теперь, благодаря вам, я сумею устоять перед искушением.
— Ну почему же? Меня совсем не огорчило бы, если б вы расправились с нашим капитаном.
— Вы каким-то образом вернули мне хладнокровие. Мне необходимо попасть в Германию и вывезти оттуда жену и ее мать, только об этом и надо думать, и я не должен привлекать к себе внимания. Конечно, утопить капитана — сладостная мечта, но мне нельзя поддаваться соблазну. Я должен забрать их оттуда.
Когда они уже сидели в баре, он спросил:
— А сегодня правда ваш день рождения? Вы ведь так сказали, когда вошли в гостиную?
Она кивнула:
— Сорок шесть, представляете?
Его даже покоробило от столь неженственного признания, и, стараясь это скрыть, он сказал:
— Очаровательно! Желаю вам еще многих, многих лет.
— Но, пожалуйста, не надо слишком много коктейлей. Если мне захочется еще выпить, я вам скажу.
Фрейтаг обвел глазами бар, народу все прибавлялось. Дженни Браун и Дэвид Скотт уселись на высоких табуретах и издали приветствовали его на мексиканский манер — подняв правую руку на уровень лица, ладонью наружу, легонько пошевелили пальцами. Он ответил тем же, и миссис Тредуэл сказала:
— Это очень мило выглядит.
— Говорят, этот жест означает «поди сюда», — пояснил Фрейтаг.
Он по-прежнему переводил взгляд с одного лица на другое, точно ждал, что все на него уставятся — прежде ему ничего подобного и в голову не приходило. Лутцы и Баумгартнеры встретились с ним глазами и кивнули — ну конечно, самые тупые из всех тупиц на корабле, у них, наверно, просто не хватает ума понять, что произошло. Все его недавние соседи по капитанскому столу были тут же, но словно не замечали его. Даже испанцы, невозможная публика, — и те на него не посмотрели, хотя одна из танцовщиц, молоденькая Конча, в последнее время частенько впивалась в него глазищами, и, уж наверно, неспроста. Даже молодая кубинская пара не обращала на него внимания, хотя он столько раз играл с их детишками — трубил в картонные дудки, подставлял себя под выстрелы их водяных пистолетов, разгуливал по палубе, посадив девочку на одно плечо, мальчугана на другое; даже горбун, даже этот нелепый верзила из Техаса — Дэнни — и те его будто не видели; ему как-то не пришло в голову первым с кем-нибудь заговорить, и почему-то он не вспомнил, как ему раньше хотелось, чтобы так называемые спутники держались от него подальше.
— Совсем упустил из виду, — сказал он и нахмурился сильнее прежнего. — Может быть, вам неприятно появляться в моем обществе? Помните, я ведь отверженный.
— Вы уверены? А известно вам, сколько у вас друзей?
— Начать с того, что у меня тут нет друзей, по крайней мере я их не знаю, — мгновенно вспылил он. — Разве что какие-то шапочные знакомства, этого сверх достаточно.
— Тогда не все ли вам равно, разговаривают с вами или нет? — спросила миссис Тредуэл.
Все всколыхнувшиеся было в ней чувства медленно, но верно отступали, прятались в привычную раковину. «Опять я дала себя втянуть в ненужные отношения», — упрекнула она себя и, сжимая ножку бокала и глядя чуть выше Фрейтагова галстука, холодно, спокойно подумала: этот господин так же несносен в своем роде, как скучнейший Дэнни — в своем. И все же побоялась, что он заподозрит перемену в ее мыслях и настроении, и поспешно прибавила, что среди пассажиров есть и кое-какие довольно приятные люди (она не назвала, кто именно), но сказать по совести, она будет рада и счастлива, если до конца плавания никто на нее и не посмотрит.
— Меня тоже это не трогает, — сказал Фрейтаг. — Нисколько. Но поймите, когда люди — да еще те, кого вы презираете, — чувствуют, что можно вам хамить, — это совсем другое дело.
— Безусловно, — сказала она и допила свой коктейль.
— Выпьете еще? — предложил он и, не дожидаясь ответа, попросил: — Выпейте, пожалуйста. Мне тоже хочется.
— Охотно, — сказала она.
И пока они ждали коктейля, она облокотилась на столик, подперла щеки ладонями и заговорила с обычной небрежной любезностью, как говорят о совершеннейших пустяках, просто чтобы не сплошь молчать:
— Представьте, раньше мне казалось, что вы самый беззаботный человек на свете, может быть, единственный, у кого нет никаких огорчений; не проболтайся я так глупо этой ужасной Лиззи, я с удовольствием и дальше в это верила бы. Очень было бы забавно, и незачем было бы о вас думать. А теперь, похоже, мы с вами как-то связаны, нам следует стать вроде как друзьями и стараться разговаривать друг с другом, даже когда не очень хочется: пускай все эти чужие люди, которых мы больше никогда не встретим (надеюсь, что не австретим!), видят, что мы не перегрызлись, назло Лиззи, и Риберу, и капитану, и всем прочим…