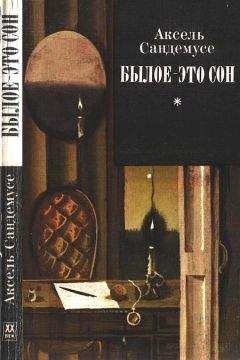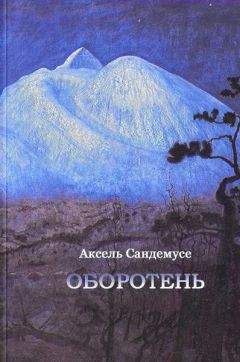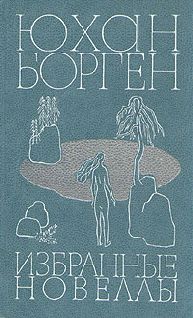Я не мог жениться на Йенни, она оказалась вне круга. Нам ничего не известно о запутанных переходах любви, даже когда мы блуждаем по ним, а уж тем более потом. Большую часть мы принимаем на веру, а если пытаемся что-то постичь, разбиваем себе голову. Многие пускаются в путь вслепую, им лучше всего, но тоже несладко. Лишь единицам удается понять кое-что в этом адском механизме… но все равно слишком поздно, когда уже ничего нельзя изменить. Дьявол любви скрывается в темном лабиринте, я почти настиг его, но успел увидеть лишь мохнатый хвост, исчезнувший за углом. Впрочем, и это не так уж мало. Вот если б изловчиться и ухватить его за хвост, услышать, как он скребется и царапается, пытаясь освободиться, вытянуть его за этот хвост, как за якорную цепь, взять за загривок, взглянуть ему прямо в глаза и спросить, что он, в сущности, собой представляет.
Но ведь он все равно солжет.
Прожив некоторое время в пансионе в Старом городе, мы вместе с Сусанной и Гюллан уехали в Рёуланн в Телемарке. Была середина лета. У меня в кармане уже лежал билет в Штаты, но Сусанна об этом еще не знала.
Когда я теперь мечтаю о Норвегии, я прежде всего вспоминаю Телемарк. Сетер Йенни в Грюе-Финнскуг иногда снится мне в кошмарах, там я встречаюсь с привидением из конюшни, которую давно сожгли. И это привидение — Гюннер, он идет на меня, в волосах у него комья земли, глаза выколоты. Как я боюсь его во сне!
Я вспоминаю домик в Рёуланне, залитый солнцем и окруженный угрюмыми горами, и вижу Гюллан, она прыгает на лужайке. Однажды мы с Сусанной бегали, пытаясь поймать какую-то странную бабочку, но нам это не удалось. Мы ушли в дом, и следом за нами прибежала торжествующая Гюллан с этой самой бабочкой. Бог знает, как такому крохотному существу удалось поймать ее.
Йорстад в моих снах теперь тоже населен злыми духами. Однажды я поехал туда один, проститься, но не собирался ни с кем там разговаривать. Я надеялся, что, может, увижу Агнес.
Это было вскоре после того, как Бьёрн Люнд приходил ко мне со своими дурацкими обвинениями.
Я расскажу тебе, что пережил там, — в тот день мне пришлось крепко держать самого себя, чтобы не обнаружить на берегу свой собственный труп.
Не играй с разумом, это не доведет до добра.
Я медленно шел по дороге, с вокзала, и у меня было странное чувство, будто я возвращаюсь домой, как некогда, сорок лет назад, возвращался из школы. Я снова увидел отца, он шел рядом со мной. В детство он мне казался добрым великаном! Тогда он легко улаживал все мои неприятности, а теперь с ними не справился бы и сам Господь Бог.
Я остановился. Вот здесь на склоне и лежала подкова, когда я был тут в первый раз, ржавая подкова обычной изящной формы. Я еще стоял и смотрел на подкову и на камешек. Рядом с подковой уже пробилось несколько зеленых стебельков, вокруг лежали кучки грязного снега. Талая вода журчала на дороге. Я услышал в горах выстрел и подумал, что нет на свете более мирного звука, чем выстрел и дружески откликнувшееся ему эхо. Мне вспомнился осенний день в Йорстаде — фьорд, звук выстрела, донесшийся издалека. Подкова смотрела на меня. Я понял, почему люди приносят подковы домой и вешают над дверью.
Я поднял эту подкову. Отойдя на несколько шагов, я остановился в нерешительности: может, следовало взять и белый камешек? Вообще-то я смогу взять его и вечером на обратном пути.
Теперь, когда я действительно был здесь, я долго стоял и смотрел на то место, где лежала подкова. Я падал в самого себя все глубже и глубже, и тело мое медленно вращалось в этом диком падении. И так мне предстояло падать вечно.
Без всякого умысла я свернул на боковую дорогу. Я все еще продолжал падать, высоко надо мной парил гриф.
Я подошел к какому-то саду и подумал, что именно здесь, должно быть, и нашли револьвер. И сразу же оказался на площадке перед заброшенным кирпичным заводом.
Еще неизвестно, когда мы видим сны? Когда спим или наяву? Когда сон кончается, а когда продолжается? Когда мы символы принимаем за действительность, а когда действительность — за символы? Ведь вернулась же Агнес, когда я был уже стар. И подкова… Ее я нашел в своем чемодане.
Я сижу и перебираю исписанные листки и думаю, что можно бы все это скомпоновать в роман. Но мое тщеславие умерло или давно пресытилось, я уже не знаю, нужно ли мне все это или нет. Вместо романов, которые я мог бы написать, если б стал писателем, ты получишь только почву, на которой они могли бы вырасти. Покопайся в этой почве и обнаружишь обрывки корней. Возможно, они сообщат тебе нечто более конкретное, но и в этом переплетении корней действительность будет перемежаться с символами. Гёте нашел самую лучшую форму для мемуаров. Это «Dichtung und Wahrheit»[53]. А все прочее — ложь. Что такое наши поступки? Ничто. Важно лишь то, что случилось с нами, когда мы очнулись от сна. Конечно, я видел, как танцевала Мэри, она танцевала в «Dichtung und Wahrheit», это было у нее на вилле. Мэри вдруг с силой схватила меня за руку и усадила на стул. Потом сбросила на пол одежду и поплыла от меня прочь. Та, которую зрители делили между собой во время ее выступлений, один-единственный раз должна была наконец показаться только одному, первый и последний раз принадлежать только одному. Она погасила лампу и продолжала кружиться в лунном сиянии, льющемся из высокого окна. Все это она продумала заранее, на то она и была актриса. Если женщина становится танцем, она перестает быть женщиной. Появляется желание схватить ее, чтобы убедиться, что она живая. Горящие взгляды летят через оркестровую яму, но все прочие чувства обмануты, как в мертвых кадрах кино. Обнаженная танцующая женщина становится сверканием, лунным лучом, хрупким фарфором, зрелищем, пустотой, и тебе не нужны руки, данные тебе создателем, и неясыть молчит на сетере возле домика Йенни.
Возможно, я не один сравниваю свою внутреннюю жизнь с небольшой солнечной системой. Но я могу отвечать только за себя.
Все, что я говорил и делал в течение двадцати пяти лет, все, о чем я писал здесь, можно сравнить с планетами, которые вращаются вокруг центра по своим орбитам. Тут есть и Луна, а иногда, вызывая тревогу, проносится комета.
И на этом подобие кончается, ибо все, что я говорил, писал и делал, служило тому, чтобы скрыть таинственный центр, исток всего остального, завертевшегося потом по своим орбитам.
Я объяснял и защищался. Я был многословен, но решающего слова так и не произнес. Ни письменно, ни устно, даже мельком, я так и не обмолвился о самом главном. Ты не найдешь путеводной нити в моих записках. Ни одной душе, даже женщине, которая была мне ближе всех, я себя не выдал. Несколько месяцев назад я сказал одному человеку, что центр этот существует. И только. Ни прямо, ни косвенно он не связан ни с эротикой, ни с внешними событиями, ни с определенным временем. Я рассказал здесь о внешнем и ничего не сказал о движущей силе, о Сатанинском оке, которое неутомимо повсюду следило за мной.
Может, кто-то, кому попадутся на глаза мои записки, сердцем поймет, о чем я говорю. Может, и ты прочтешь их когда-нибудь и поймешь, почему древние не называли бога по имени.
На всех преуспевших в этом мире дьявол поставил свою печать.
Двадцать пять лет я постоянно думал об этом, но я знал это и раньше. Ночью и днем, во сне и наяву а это занимало меня, и теперь я знаю, что сойду в могилу, не раскрыв своих карт.
Я знаю, кто такой Гитлер. Знаю кое-что и о других, но не буду их называть, чтобы не задеть твоих чувств.
Я знаю, сколько будет дважды два, и я их всех презираю.
Приятно было жить с Сусанной без Трюггве, но вместе с тем что-то как будто исчезло. Я почувствовал это еще в пансионе. По-моему, и Сусанна тоже испытывала нечто подобное. Тосковала ли она по Гюннеру и как сильно, понять было трудно, но многое говорило мне о том, что после его больного брата осталась пустота.
Она редко бывала веселой, такой, какой была, когда мы обманывали Гюннера и он еще не знал об этом, а если порой и веселилась, то словно в забытьи. У меня в кармане уже лежал билет, и я думал об океане, кишевшем подводными лодками и минами, который мне предстояло пересечь.
Я хотел уехать от Сусанны. Хотел сбросить с себя этот груз, вернуться домой, снова стать таким, каким был. И меня терзал страх перед Гюннером, — не зря у него был душевнобольной брат. Однажды мы ехали в автобусе, там в окне была круглая дырочка. Я посмотрел на противоположное окно — там тоже была дырочка, все верно. Через автобус пролетела пуля, моя голова находилась как раз на ее траектории. Я невольно отодвинулся. Теперь, когда я думал о Гюннере, я знал, — моя голова находится на траектории пули. Едва ли он собирался убить меня, но ему могло прийти это в голову, и он осуществил бы свой план, если б я не уехал так далеко.
Как-то раз я один пошел в местную лавочку. Там весело обсуждали двоих, которые только что вышли оттуда.