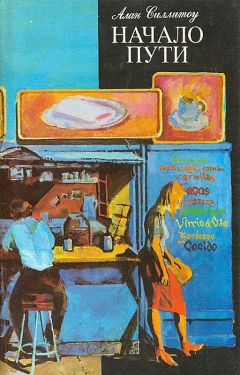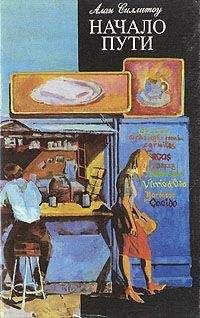— Ты своим родителям сообщила?
— Нет, — ответила она. — Да. Вчера написала письмо.
— Вчера? Письмо? — Я встал, зажег две сигареты. — А почему не позвонила? Или телеграмму бы послала.
Она улыбнулась, будто приятно удивилась своему неразумию.
— Не знаю. Правда, не знаю.
— Вот сумасшедшая.
— Знаю, — сказала она и опять заплакала. Я обнял ее.
— Да нет, ты не сумасшедшая. Не плачь.
— Я не люблю своих родителей.
— При чем тут это?
— Я и в Англию приехала, чтоб отделаться от них.
Был уже час дня, когда мы оделись и пошли к Смогу. Он лежал с открытыми глазами.
— Я вас слышал, — сказал он. — Вы что делали?
— Лежали в кровати и любили друг дружку, — сказал я.
— Это приятно?
— Ты голодный? — Я посадил его к себе на колени. — Бриджит готовит тебе еще завтрак.
— А уховертка ушла, — сказал он. — Колокол больше не звонит.
— Тогда дадим тебе сейчас яйцо, не то она проснется и опять примется за свои фокусы.
— Я хочу есть, — сказал Смог.
И он поел с аппетитом. Потом я стал читать ему одну книжку, другую, он все не хотел спать, но под конец уснул.
Я целый час бродил по Пустоши, по щиколотку в грязи и гниющих листьях. Пошел дождь, я заспешил к метро и ходил поблизости, пока не нашел книжный магазин. Увидал подержанную книжку Джилберта Блэскина за два шиллинга, но решил — дорого, и не купил. Все мне сейчас было неинтересно. Смог вроде начал приходить в себя, и я тревожился о завтрашней поездке.
Ребятня возвращалась из школы, пора было и мне назад. Казалось, твердая почва ушла из-под ног. Я повис в воздухе. Все, что сейчас происходит, никак не связано с тем, что должно случиться. Похоже, скоро конец света или неотвратимо надвигается что-то грозное. Обрубить бы канаты и удирать на всех парусах. Чутье подсказывало, где рубить и куда бежать, не было никаких причин его не слушаться. Но я знал: нет у меня надежды поступить, как велит чутье, а значит, мной завладела какая-то сила, еще посильней моего инстинкта. И играет мной. Меня потянуло убраться подальше от дождя, который пеленой заволок листья и кусты.
Я привел Смога вниз, в гостиную, и стал поить его чаем — он сидел у окна и с удовольствием глядел, как дождь разрисовывает стекло. Глаза у него уже не казались такими маленькими, как утром. Кожа — нежная, прозрачная, и, пока он не улыбнется или не попросит еще поесть, можно подумать — она прямо фарфоровая. Я сказал ему — я на несколько дней уеду, должен ехать по работе, а то не на что будет жить.
— А ты просто сходи в банк, — сказал он.
— В банке деньги только хранятся. Сперва их надо заработать.
— А я тебе их сделаю, — сказал он; весь рот у него был перемазан вареньем.
Ему уже не сиделось на месте, он помчался за фломастерами. Я нарезал бумажных квадратиков, и он их разузорил, но почувствовал — что-то здесь не то, и попросил меня нарезать еще. Потом попросил пятифунтовый билет — решил в точности его срисовать. А потом не захотел отдать обратно. Я сказал — ладно, даю тебе взаймы, а когда в субботу вернусь, ты, мол, мне эти деньги отдай, и если будешь вести себя примерно и хорошо есть, свожу тебя в магазин Хэмли и ты там на все пять фунтов накупишь игрушек. И он пошел спать очень довольный.
Я сказал Бриджит — я уезжаю ненадолго, и велел ей заботиться перво-наперво о Смоге, а потом и о себе, и она пообещала.
— Не люблю, когда летают самолетом, — сказала она. — Самолеты разбиваются.
— Со мной не разобьется. Этого я не боюсь. Я верю в это чудо техники.
Она еще прежде сбросила свои черные одежки и лежала сейчас в цветастом халатике, а на мне и вовсе ничего не было. Ночник освещал нас обоих. Я оделся, сказал — мне пора. Но мне боязно было, как бы с ней и со Смогом чего не случилось, будто я один был им опора и защитник, а без меня им грозят невесть какие напасти. Глупо, конечно, что я так боялся, а все оттого, что переоценивал свои силы, а их силы недооценивал. Бриджит вполне могла постоять и за себя, и за мальчонку. Но я еще со страхом думал, что ждет меня самого, когда я отсюда уйду, и пугало меня вовсе не то, что самолет рухнет вниз и разобьется.
Дождь перестал, в разрывах между тучами, которые гнал сильный ветер, мелькали звезды. Я уже спустился с лестницы и чуть было не повернул обратно. Но все же пошел прочь, и по звуку шагов можно было подумать: человек спешит. Если шаг у меня и впрямь был торопливый, я сам не знал, куда меня гонит, впервые в жизни мне стало по-настоящему страшно. Я шел через Пустошь, и на каждом шагу мне чудились засады, и я обрадовался, когда дошел до метро, до огней светофоров, и стал спускаться с Хаверстокского холма. Я решил идти домой через центр, ложиться в постель еще не хотелось, вряд ли сумею уснуть. Каждая проносящаяся мимо машина успокаивала, от усталости мне наконец полегчало, я знал: утром я уже буду совсем спокоен.
Денек выдался хороший, прохладный, я принял ванну и побрился — хотел освежиться, да еще и смыть с себя грязь, ведь сегодня я надеялся встретиться в Женеве со своей Полли. Я сварил яйцо, потом позвонил Бриджит, сказал: я люблю и ее и Смога, пускай ждут меня в конце недели. Она пообещала, и я прямо почувствовал в ухе ее горячее дыхание. Она сказала: Смог здоров и плотно позавтракал. Сейчас он играет в саду с соседским мальчиком, сыном архитектора, того только что бросила жена. Смог уже строит планы, что он купит на те, пять фунтов, когда я поведу его в игрушечный магазин. Хоть это приятно было услышать, и я повесил трубку.
Я стоял и глядел в окно на крыши и задние стены жилых домов, выходить было неохота — лень, что ли, одолела. Но скоро я подумал, каким хорошим завтраком себя угощу перед тем, как поеду в склад-квартиру Джека Линингрейда и пройду обычный обряд загрузки, и я надел пальто, шляпу, подхватил чемоданчик с пижамой и прочими мелочами, в последний раз обвел взглядом нашу берлогу и зашагал в Сохо. Река под мостом текла зеленая, маслянистая, я глядел на нее и ждал какого-нибудь знака. Ничего не дождался, а все равно приятно — вода течет, зыбится, вся в движении.
Я пришел в ресторанчик Тонио, и он встретил меня прямо как земляка. Теперь-то он мне не нравился: ведь Моггерхэнгер сказал — Тонио сообщает ему о приходе и уходе своих посетителей. Но я все равно улыбнулся, спросил, как жизнь, в общем, ничем себя не выдал. А когда он пошел передать мой заказ, я подумал (и только после узнал — так оно и было), он пошел звонить Моггерхэнгеру, что я, мол, здесь. Я, конечно, бросил бы сюда ходить, да уж больно хорошо Тонио кормил, а потом, если я перестану здесь обедать, Моггерхэнгер сразу меня заподозрит, и вообще, когда дело плохо, лучше поступать как хочется — на поверку оказывается, это ничего не меняет. Я не только поступил по-своему, я еще и всласть поел, а это очень кстати, ведь поездка предстоит дальняя — ни много ни мало в Бразилию.
Джекова бражка нагрузит меня золотом, я продам в Женеве один брусок, а с остальными быстренько махну в Рио-де-Жанейро. По разговору с Моггерхэнгером я понял: Полли вряд ли встретит меня на аэродроме, так что я прилечу и улечу еще до того, как она вздумает меня искать. Все мои планы были построены на песке, только потому и можно было надеяться на успех. Прилечу в Бразилию и пошлю за Полли, и в таком я был упоении — даже воображал, будто она с радостью приедет, а если станет разыгрывать неприступную или окажется, она уж очень под башмаком у Моггерхэнгера и не сумеет сбежать, тогда приглашу Бриджит со Смогом и уж они-то враз ухватятся за такое предложение. Все вилами по воде писано, только надежда крепка, и это хорошо, ведь у меня всегда так: чем крепче надеюсь, тем больше мне везет.
Я доедал zabaglione, и тут вошел Джек Календарь — вот уж кого мне в этот час вовсе не хотелось видеть. Я живо отодвинул от себя сладкое — не желал я сейчас его кормить — и закурил сигару. Подошел Тонио, вроде хотел спросить, подать ли мне кофе, а на самом деле собрался ухватить Джека за бороду и за ворот и вытолкать вон.
— Не тронь его! — рявкнул я. — Не то мы оба за тебя возьмемся.
Он глянул на меня как на сумасшедшего и пошел за вареным корнем одуванчика — у него это называлось кофе — по два шиллинга за чашечку с наперсток.
— Ну, какой счет? — спросил я Джека. — Чего стоите, садитесь. Я здесь в последний раз.
Он весь зарос седой кудрявой бородой, но был сейчас довольно чистый и от него не слишком разило.
— Счет десять — ноль в их пользу, но я не жалуюсь. Бросил наливаться всякой дрянью. И даже не голоден. Теперь молодежь дает мне деньги, я, так сказать, вписался в пейзаж. Все переменилось. Я у них не прошу, но они хотят быть великодушными, особенно те, кто беден. У некоторых, судя по виду, дела еще хуже моих, но они суют мне в руку медяк, а то и несколько.
— Это хорошо. Вы были на линии огня.
— Да, — сказал он, — но я не прочь отойти в тыл и месяц-другой передохнуть. Если мне это удастся, я наберусь сил и протяну до девяноста лет.