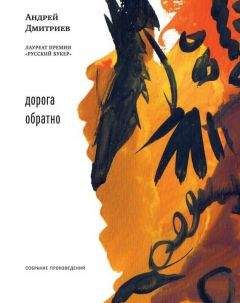Он проживет в ней еще множество дней, день ото дня все более тихих, потому что экскаваторный закроют через год со всем его молотобойством, а радиозавод всегда был тих, лишь ранним утром и по вечерам несильно шумел у своей проходной приливом и отливом рабочей смены, — радиозавод останется, как и был, при деле, но поредеет и притихнет поток людей у его проходной. Зато появятся стальные склады, с вывесками и без вывесок, днем безмолвные, гремящие по ночам замками и засовами, зудящие моторами транспортеров и электропогрузчиков, пугающие вспышками прожекторов и автомобильных фар. Шоссе союзного значения станет шоссе федерального значения, расширится до шести полос, и по нему пойдут, бампер в бампер, автопоезда с адресами, телефонами и рекламами их иностранных отправителей на брезентовых фургонах, хлопая брезентами и, как ветер в горах, непрерывно и ровно гудя над головой.
Тихие дни и беспокойные ночи приучат Серафима подолгу спать днем и лишь к вечеру выходить из дому; дотемна просиживать в любом из пабов Варшавского бульвара или в любом бистро на набережной за кружкой темного ирландского в ненастье или немецкого светлого пива при ясном и безветренном закате. Возвращаться домой он привыкнет за полночь, с тем лишь, чтобы занавесить окна и сразу включить в сеть подаренный ему Ионой ко дню выхода на пенсию музыкальный центр, перебрать нетерпеливыми пальцами лазерные диски и, пережив тяжкую минуту выбора, поставить Вебера или, нет, Орфа. Хор легко перекроет ночные грохоты промзоны и будет звучать до утра, пока рассвет за окном не проявит цвета орнамента на занавесках, пока не придет время принимать валокордин и забираться с головой под одеяло… Пару раз во время бессонницы он забредет в планетарий: с любопытством послушает лекцию о Нострадамусе, прочитанную заезжим академиком и магистром некой Всепланетной академии сокровенных наук — под музыку, в полной темноте, под кружащимся над головой и уже кое-где заштопанным бархатным звездным небом, и проповедь пастора из Акапулько — тот будет со слезами уговаривать Серафима не убивать себе подобных, не обижать животных, чтить родителей и никогда не брать что плохо лежит. Пару раз он погостит у сына на барже, но каждый раз накоротке: закоренелый пешеход, он даже на середине озера будет страдать на барже от тесноты, скованности и скуки. Зато ему доведется, благодаря индивидуальному туру, подаренному Ионой и Мариной, вволю побродить по итальянским улицам и холмам.
— Какова Флоренция? А Фьезоле? А Падуя, черт возьми?.. На Севере были? До Венеции, я спрашиваю, добрались? — восторженно пытала его Марина, вместе с Ионой встречая его в московском аэропорту, ностальгически вздыхая и ожидая в ответ благодарных вздохов.
Он и вздыхал, но молчал. Марина не унималась:
— Хорошо. Теперь соберитесь и отвечайте. О чем вы думали, садясь сегодня в самолет в римском аэропорту Леонардо да Винчи? О чем вы думали, когда вам объявили посадку в Шереметьево-два?
— Я думал: они были правы, — с неохотою признался Серафим и отвернулся, молча глядя в окно такси…
Они уже плыли в дымном потоке по Ленинградскому проспекту; проспект ныл и задыхался, изнуренный своим неостановимым движением; над ним нависали слева, как отроги, кирпичные корпуса институтов, теснились лодочки лотков, сбивались стайками машины на стоянках; чугунный Тельман в кепке грозил кулаком, толпа стекала в метро…
— Не спите; извините: кто?
— Те, что сожгли Джордано Бруно. Те, что судили Галилея.
— Эк тебя повело, — нахмурился Иона.
— Их мир был слишком мал, слишком прекрасен и слишком хрупок, хотя и груб, — пояснил Серафим. — Они чувствовали: новая истина — эти новые небеса — была бы слишком для него тяжела. Этот прекрасный и хрупкий маленький мир не мог выдержать этакой тяжести, а ведь он, этот мир, был им мил…
— Истина Бруно все равно победила, — сказал Иона.
— Вот именно, — атакуя, подхватила Марина. — И Флоренция стоит, как и стояла. Венеция стоит, как и стояла. Рим стоит!.. Прекрасный маленький мир не рухнул, в чем еще вчера вы могли убедиться сами…
— Он рухнул, — спокойно сказал Серафим. — От него остались одни скорлупки, как и прежде, очень красивые. Внутри нет ничего… Там пусто — одно лишь эхо голосов таких вот, как я, пенсионеров, бродяг и бездельников…
— Ладно тебе, пусть Флоренция — скорлупа для бездельников, пусть Венеция, Падуя, Мантуя — скорлупки для бродяг, — недовольно закивал головой Иона. — Что же тогда весь остальной мир, живущий под небом Бруно и Галилея? Что же мы все?
— Мы промзона, одна промзона, — ответил Серафим.
— Это тебе так кажется, — уверенно сказал Иона. — Это все потому, что ты у себя один; даже телевизор не смотришь. Старый давно выкинул, новым не обзавелся… Подарю-ка я тебе телевизор.
— Это лишнее, — сухо сказал Серафим, и замолчал, и до самого возвращения в наш город не проронил ни слова.
Пускай и не вышло меж ними размолвки, но с тех пор они виделись редко. Серафим был празден и замкнут. Иона и Марина жили делом; дело стремительно набухало наконец-то народившимися в России живыми деньгами, боязливо и жадно льнущими к живым деньгам, спешащими туда, где их больше, где им, стало быть, нетревожнее и надежнее, то есть в «Деликат», — целые дни уходили на то, чтобы их принимать, размещать и пристраивать. Редко теперь выдавался свободный денек; ржавела баржа у городской пристани; если дело и отпускало, то в архивы, где Иона, все еще не потерявший надежды когда-нибудь сварить свой сыр, разыскивал изображения и чертежи старых русских сыроварен, пытаясь найти среди них ту, которая, если ее наконец построить, воссоздавая, как оно было, каждое бревнышко, каждый наличник и каждый гвоздик, лучше других вписалась бы в городской пейзаж и убедительнее прочих могла бы сойти за прадедову сыроварню. Поиски шли медленно, тихо, отчего и стал для всех сюрпризом день торжественной закладки ее фундамента в Цыпляевом переулке: при большом стечении народа, при свечах и хоругвях, с молебном, речами, шампанским и льстивыми частушками в исполнении перепоясанных кушаками работников молокозавода. Иона сказал речь. Поблагодарил за частушки. Пообещал, пока сыроварня строится, заняться розысками утерянных рецептов старых русских сыров… «Если позволит время, — честно добавил он, прерывая аплодисменты, — если позволит время…» Посмотрел на часы, выпил шампанского и улетел в Москву на открытие столичного филиала банка «Деликат».
Покуда строилась по старым чертежам, венчая дело «Деликата», сыроварня, само дело пошло трещинами. Отпал Семен Семеныч Ползунков, отломив его кусок и сказав: «Я уважаю Иону Серафимовича, но не люблю сыр. Мое дело деньги — и не потому, что я жаден, а потому, что в них мое призвание». Потом отпал Скакунников-второй, вдруг нервно заявив о своем принципиальном несогласии с Ионой и Мариной. В чем вышло несогласие, он так и не сказал, лишь повторял: «Я снимаю с себя ответственность! Пусть знают все: я полностью снимаю с себя ответственность!». Необъяснимая нервность Скакунникова передалась властям; они наслали аудит; тот привел прокуратуру; под суд попал сотрудник Сенюшкин, благотворительностью «Деликата» благотворивший втайне от Ионы АО «Медбрат» — тверскую фирму собственного брата. Пока шел суд, весь город жил на нерве и ждал, притянут ли Иону, но тот остался кем и был. Нерв унялся, но успел причинить ущерб: опасливые деньги, выжидая, не льнули к «Деликату» все месяцы суда над Сенюшкиным. После приговора дело задышало, но не было его дыхание, как прежде, легким; из разговоров в пабах и бистро Серафим знал: уже случаются и приступы удушья. Из тех же разговоров было ясно, что трудно дышит не один «Деликат»; у «Деликата» не в пример другим есть преимущество — имя В. В., которое Иона и Марина ничем в глазах людей не посрамили. Серафима раздражали эти чужие разговоры. В них была осведомленность, которой сам он был начисто лишен, в них был живой интерес, ему самому не свойственный, — и потому в них слышался упрек ему, отцу, беспечно попивающему пиво на деньги собственного сына. Однажды, осердясь на себя, он задумался о своем безразличии к делам Ионы. Поспешность, с которой он оборвал мысль, не додумав ее, привела его к открытию: при любой попытке вообразить и понять жизнь своего сына у него назревает тревожное и опасное состояние, сродни тому, что пережил он в неосторожной юности, попытавшись представить размеры и вобрать в себя образ Галактики. Совесть успокоилась; жизнь продолжалась; она шла легкими шагами, не озираясь больше, не оглядываясь, не глядя под ноги и не заглядывая вперед, лишь тихо радуясь любому из своих одинаковых, размеренных шагов, — и вдруг споткнулась на неясной злобной фразочке, услышанной Серафимом на аллее аттракционов Нахимовского сквера.
Две немолодые мамы или, скорее, няни болтали на лавочке под фонарем, покачивая перед собой коляски в такт усыпительному скрипу размашистых качелей. При виде Серафима они прекратили свою болтовню, проводили его, не моргая, отчужденными неласковыми взглядами, какими привыкли провожать пьяных, и, когда он, все еще чувствуя спиною эти взгляды, прошел мимо, — услышал за спиной внятный голос одной из них: