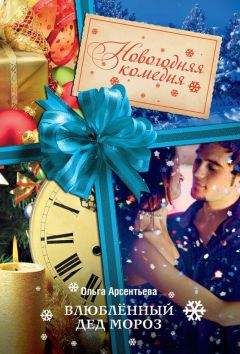— А младший, — продолжали они, — ямайский бизнесмен? Не успел прилететь?
Я помню слова бабушки, когда впервые перешагнул порог дома престарелых: «В этой семье, очевидно, принято убегать из дома». Она была права. Многие убегают, мало кто возвращается, и где надлежит остановиться? На словах священника? На руке сестры, которая как-то незаметно скользнула в карман моей куртки, или на моем возвращении домой? Больше семи лет я провел в Амстердаме, семь лет бабушка ждала мальчика, который боялся собачьих голов, — достаточное время для восстановления сил, но мальчик так и не смог забыть свои собачьи головы, и у него не было никакого желания возвращаться домой к кубистическому наследству. Но, бродя по старому дому на Тунёвай, я не видел ничего кроме туманных зимних пейзажей старости, пока мне не попались на глаза остатки огромного костра, который уничтожил часть изгороди.
И тут я понял, что сделал дедушка: он расчистил путь. В моей воле снова написать сожженные картины и тем самым представить собственное видение всей истории. И вот, уже почти полгода назад, в комнате для гостей в доме Стинне и Сливной Пробки, я разложил все необходимое: терпентин и льняное масло, мольберт и кисти. То, что я не взял с собой из Амстердама, я смог найти в сарае на Тунёвай. Новое и старое — и вот я взялся за дело. Я нарисовал Протекающую русалку, я изобразил Собачью голову под лестницей, бегство Аскиля через пустынное поле на востоке Германии, шхуну «Аманда» в утреннем тумане, чудовище на кухне, чертика, выпрыгивающего из шкафа. Я нарисовал радость и горе, увиденные через замочную скважину. Падение альпинистов. Гибель мошенника. Я работал быстро, не жалел красок, частенько позволял фантазии увлечь меня, и между картинами «Без названия» и «Незаконченными картинами» возникали более прозаические: «Самокритика», «Очищение»… Почему мать занимает так мало места в моих рассказах? Не слишком ли много красной краски в изображениях моей сестры? Как дела у мореплавателя Кнута, которого мы до последнего момента ждали на похоронах?
Вопросов множество. Я не очень горжусь тем беспорядком, который оставил в доме сестры. Среди моих картин есть и такие: «Незавершенные дела» и «Ложные следы». И еще: для изображения различных оскорблений я использую особые смеси красок. Был у меня когда-то прапрадедушка Расмус, которого обижало, что его называют Расмус Клыкастый. И Аскиль подчас становился жертвой техники комиксов и газетных карикатур. Кроме этого, я использовал особые сочетания красок для изображения чего-то невероятного, ими я рисовал лесных духов и чудищ, которые на моих полотнах зажили своей жизнью. Их я использовал в крайних случаях, к ним я вынужден был прибегать, когда в семейных историях мне не все было ясно, — и этими же красками я рисовал гору Блакса. Может быть, мне стоит подправить кое-что и сказать: «Я не знал, что на самом деле происходило»? А не лучше ли мне отправиться к тем чистым холстам, которые еще остались в комнате для гостей? Сделать быстрый набросок моих племянников, которые изображают Цирк Эрикссон, играя со старыми носами Сливной Пробки. Раз в год он меняет нос, когда от никотина тот сильно желтеет, и кладет носы в коробку в кладовке, откуда их извлекают дети, когда играют в игры с переодеванием. Или же мне следует оставаться верным своей истории — хотите верьте, хотите нет, это моя единственная правда — и под конец натянуть последний маленький холст?
Да, — говорит Стинне. Пора заканчивать. Очень хорошо, что я пожил у них, но не могу же я вечно жить в комнате для гостей.
«Я зарыла их за сараем» — это были последние слова бабушки, и после похорон мы поехали в дом на Тунёвай, нашли лопату и принялись копать. Через полчаса пошел дождь. Стинне до последнего скептически относилась к этой затее:
— Да не может тут ничего быть. Столько лет прошло — и они тут все еще лежат? Им ведь всегда нужны были деньги.
От дождя ее волосы стали виться, у нее поплыла косметика, и наконец мы настолько одурели, что стали бросаться друг в друга грязью.
— Я по-прежнему не верю в это, — вздохнула она обреченно, но когда мы в конце концов увидели в мутной грязной луже черный полиэтиленовый пакет, то почувствовали легкое возбуждение. Такое же возбуждение испытывал дедушка всякий раз, когда зашивал деньги в матрас в старой комнате вдовы капитана Кнутссона. То же возбуждение испытывал отец перед пыльной витриной торговца монетами Ибсена, или когда монеты дождем лились на причал, или когда он позднее ушел в «серые зоны» коммерции, надеясь на новые горшки с сокровищем. То же волнение — и то же самое разочарование, когда, мгновение спустя, мы стояли с дырявым пакетом, набитым заплесневелыми норвежскими купюрами. С тех пор как Аскиля арестовали немцы, бабушка жила в девяти домах. Каждый раз при переезде она брала с собой свой тайный груз, закапывала в саду, прятала в кладовках и на чердаке. Может быть, она так стыдилась этих денег, что и не могла ими воспользоваться. Может быть, она слишком хорошо знала, на что их может потратить Аскиль… Она могла бы положить их в банк, вложить их во что-нибудь, но в нашей семье никто никогда не отличался умением распоряжаться своим наследством.
— Да насрать, — сказала Стинне, разглядывая жалкие остатки.
— Насрать, — согласился я.
В руках у нас оказалось наше семейное сокровище из-под радуги, и тут мы обнаружили, что оно сожрано дождем и обесценено временем. Это из-за него появились собаки-ищейки и случилось многое, что было куда хуже них, — а теперь вот мы держим его в руках, и когда Стинне достала заплесневелые купюры, чтобы пересчитать, они стали распадаться у нас на глазах.
— Она все время это знала, — продолжала Стинне повторять, пока мы ехали по городу.
Дождь усиливался, надвигалась темнота, и вот она сомкнулась вокруг нас. Стинне посмотрела на меня. На минуту мне показалось: она хочет что-то сказать, но она молчала, сосредоточившись на дороге. Мы сделали то, что сделал бы отец: отправились прямо домой, не позволив тьме пройти сквозь нас.
Нурланн — одна из самых северных областей Норвегии. (Здесь и далее — примечания переводчика.)
Заксенхаузен — концентрационный лагерь в г. Ораниенбург под Берлином.
В конце Второй мировой войны Красный Крест собирал в Нойенгамме узников-скандинавов из других концентрационных лагерей для последующей отправки в Швецию.
Сигрид Унсет (1882–1949) — норвежская писательница, лауреат Нобелевской премии 1928 г.
Староста блока в концентрационном лагере (нем.).
Внимание, внимание, шагом марш, быстро, пошел, пошел… (нем.).
В середине апреля 1940 г. англо-французские войска развернули наступление на Тронхейм, но потерпели неудачу и в начале мая вынуждены были уйти из центральной Норвегии.
Пошел, собачье отродье (нем.).
Видкун Квислинг (1887–1945) — норвежский политик-коллаборационист, имя которого стало символом предательства.
Шребер Даниель Готтлиб Мориц (1808–1861) — немецкий врач и педагог, сторонник строгой системы воспитания детей.
Великий старец (англ.).
нечестной (англ.).
их всех (англ.).
Марсель Дюшан (1887–1968) — французский и американский художник, теоретик искусства, стоявший у истоков дадаизма и сюрреализма.