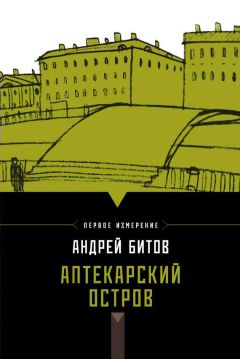Перспектива эта вдруг покачнулась и сократилась, переломившись надвое. Звякнула сама собою рюмка о близкую бутылку. Качнулась лампа, передвинула тени. Все необыкновенно оживились.
— Ого! — сказал Монахов. — Неужели?
— Около пяти баллов, — гордясь, сказала тетушка.
— Отлично!..
Все выпили за это, повторив в своей памяти толчок всеобщим чоканьем. Все тени успокоились на прежних местах: Монахов, как бы потрясенный живым явлением природы, мечтательно не глядел на Наташу, Ленечка не видел Монахова, как не заметил, кажется, и землетрясения, Наталья же…
— Монахов… — сказала она. — Иди ко мне.
«Ленечка же рядом… Как она может!» — воскликнул молча Монахов и потупился, не выдержав ее взгляда.
— Ты что, не слышишь?
Монахов замычал и замотал головой от непереносимости. Все — смотрели.
Зябликов фабриковал следующую папиросу. Движения его были размеренны и точны (но в этой неторопливости будто еще острей плескалось его нетерпение), чем ближе к завершению, тем медленней, истомляя себя, — он удовлетворился наконец ее аккуратностью и плотностью и жречески чиркнул спичкой. Осторожнейшим образом прикурив, он повел себя еще страннее: чуть выпустив дым, он тут же судорожно подвигался за ним, ловя его жадным ртом назад, подгоняя ладошкой утекающую струйку дыма с конца папиросы, — напоминал рыбу из воды. Он был чрезвычайно поглощен, и Монахов не рискнул его спросить, зачем он так, но больше никого это не удивляло. Сделав ряд вот таких вороватых затяжечек, он откидывался и расслаблялся, прикрыв глаза; осторожная, слепая улыбка чуть трогала его губы. «Чудак…» — думал Монахов. Тетушка, лишившись Зябликова, щурилась на Монахова. Выходит, Монахов зря полагал, что она настроена против, наверно, она, не выпив, стеснялась. Она посмотрела на Монахова и стала тихо, но как бы профессионально напевать:
«Я притаилась, не говорю ни слова…» «Алкоголичка», — подумал Монахов.
«Что им от меня надо?» — восклицал он как бы неприязненно, имея в виду свою неотразимость. Натальин голый взгляд по-прежнему прижигал его. «Кайф…» — блаженно пробормотал Зябликов. Со страхом он покосился вбок, на Ленечку — тот все так же неунывно, с тем же немым восторгом смотрел на Наталью, будто одного этого ему было навсегда достаточно.
И ничего не видел.
— Не слышишь?..
— Не слышу, — глухо и жестоко сказал Монахов.
Наталья хлопнула дверью.
Ленечка дернулся за ней.
«Надо было мне не приезжать… Надо было мне улететь… Вот навертел: неизвестно, что надо». Монахов затосковал. «Неужто он ничего не видит! — рассердился он тут на Ленечку. — Я здесь — ежу понятно зачем и почему. Я бы на твоем месте… не знаю даже… давно убил бы меня! Как он выносит все это?..» Монахов сурово подвинул себе бутылку, выпил полный стакан в решительном одиночестве и сделался демонстративно мрачен. «Господи! что же это? Умер я, что ли? Что ж это я не люблю никого… Ни ее, ни жену. И себя не люблю. Да ведь и маму тоже!.. — он подумал это словами и впрямь ужаснулся. — А ведь любил! ведь как любил… Вот так, как он, и любил!» — догадался он и зажмурился — так внезапно подступило все из глуби его стертых лет, будто и всегда было рядом, будто вчера, и, главное, не в последовательности, не в протяженности, а сразу, вместе, будто на одном холсте, будто времени не существовало, а все происходило сразу: и сегодня, и вчера, и завтра — в одном пространстве. Это так ослепительно подступило, но как только он стал припоминать последовательность, так сразу и отступило, и осталось ощущение, что секунду он был Ленечкой, сидел на его стуле, разглядывал Наталью и ничего не было, кроме… Вот что, однако, зацепилось, прилипло в черепе из этого слитного кома: то, чего он совсем уж никогда не вспоминал, а тогда, двадцать лет тому, внимания не обратил… Да, вот так-то: тогда этого с ним и не было, а стряслось сейчас. В эту минуту, через двадцать лет, с ним случилось то, чего он тогда и не заметил, и не увидел, не понял, не хотел, не мог понять, чего он не принял бы тогда никогда и ни за что…
…Ася работала на оптическом заводе… Линзочки эти сейчас отчетливо вспомнил Монахов, она их приносила как-то, хорошенькие такие. Работала она в две смены, и вечерняя была удобна для юного Алеши Монахова: он мог приходить к Асе с утра, когда никого в ее квартире не было, а его родители считали, что он в институте. Да, так он и жил, через неделю. Но как-то раз выдалась и вторая неделя подряд: Ася бюллетенила… И вот он прибежал как-то пораньше, радостный, мечтая застать ее еще сонную… но застал ее совершенно не сонную. Она сидела в своем застиранном, излюбленном им халатике с готовым, дневным лицом, и напротив, через стол, сидел какой-то мужик с бутылкой портвейна. Теперь удивлялся Монахов, что тогда он не растерялся и не удивился, а лишь сразу задосадовал от помехи. По одному виду этого мужика юный Алеша был уверен, что это никак не предмет его ревности. Мужик был из другого мира, очень некрасивый, неважно одетый и немолодой. Теперь же, когда Монахов разглядел его через время, было очевидно, что мужик был по случаю выбрит и наряден, и не был он вовсе стар, а очень даже крепкий и свежий был мужик. Они нисколько не смутились его приходу. «Это… (вот фамилию Монахов забыл) мой мастер, я тебе о нем рассказывала, мой учитель, — сказала Ася. — А это мой Алеша». Монахов вспомнил его здоровое, гладкое рукопожатие и взгляд. Да, что-то она действительно ему упоминала прежде раз-другой, что есть такой — комплименты говорит, приглашает куда-то. Алеша не обратил внимания, ему было скучно все про ее завод. Теперь-то Монахов уже знал таких мужиков, видывал. Теперь он видел, что и взгляд был не глупый, хваткий, слесарный такой (слесари чаще не глупы), что и держался он со своим достоинством, причем привычным, что и для себя, и для других был он неплох и на месте, прочный человек. Ведь, кроме этого, первого, уместного взгляда, ни разу он не повел себя ни ехидно, ни с намеком, ни проницательно, ни с превосходством. Да, вполне был мужик… Ах, теперь Монахов гораздо лучше расслышал ее рассредоточенные, вскользь упоминания о нем! Чего хотя бы стоил рассказ Аси о том, что была у мастера после войны невеста, литовка или латышка, где он воевал, и очень они любили друг друга, и она трагически погибла: оправила задравшуюся юбку (вот непридуманное место в романсе!), когда они влюбленно летали на качелях, и упала прямо на пики садовой решетки… Когда рассказывается такая история, а?.. И значит, до сих пор не женат — об этом Ася тоже помянула. И зарабатывает дай бог. М-да… Хорошо держался мужик: не заговаривал зубы, не мельтешил, кажется, только и сказал, что предложил портвейну, но и на этом не настаивал. А только сидел прочно на том же стуле, и словно стул под ним становился прочнее. Монахов видел его теперь так рядом, этого мужика, о котором не вспомнил во всю жизнь ни разу: этот серый, добротный, что называется, костюм, отутюженный по-флотски (ага, еще поминала Ася: он служил на флоте), синюю рубашку, костистое лицо с моложавой кожей и особенно отчетливо почему-то — волосы, чрезвычайно прямые, до сих пор неподатливые, кажется, он и при Алеше время от времени причесывался… был он, пожалуй, и не русский, а какой-нибудь чуваш или мариец, откуда-нибудь оттуда, сообразил теперь Монахов. Говорят про чувашей, что у них феноменальная потенция… Монахов еще отчетливей приблизил его лицо: этот срезанный затылок с торчащим хохолком, эти слоновьи неглупые глазки с недостатком век, этот кривой и длинный, волнистый, костистый нос… да и то, что кое-кто мерит носом, было у него, пожалуй, не короче… У-у, жлобина! — застонал теперь Монахов, но кулак его не проникал сквозь толщу лет. Это ладно, успокаивал он себя, это бог с ним… Трудно заподозрить свою первую любовь с таким неромантическим соперником… Но ведь дальше, дальше-то что было! Ужас. Просто ужас. Мастер наконец (попросила она его выйти или не попросила? — не помню) встал и вышел, но не навсегда, а должен был вернуться вскоре, оставил свой портвейн… Ася сидела на кровати, Алеша стоял на коленях, целовал ей руки, лез к ней. Ася говорила, что нельзя, что он скоро вернется. Вообще она что-то подозрительно много объясняла, почему тот пришел, как она от него на работе зависит, чем ему обязана, что за его спиной ей там все-таки легче, что он давно уже напрашивается, что она не могла отказать в конце концов, что он скоро уйдет, а Алеша вернется, а пусть пока Алеша уйдет. Но Алешу почему-то вовсе не занимали ее объяснения, интересно ему слушать про какого-то человека, которого для него не существовало ни при каких условиях… и вот что, кажется, произошло теперь, на глазах у Монахова… ах, ему и теперь невозможно было в это поверить! Будто Ася все-таки уступила Алеше. «Ладно, скорей», — сказала она и была как-то не то рассеянна, не то скучна — холодна. А Алеша был счастлив и подымался с колен с торжеством, с которым и взглянул на почти тут же вошедшего «товарища по работе». После чего быстро попрощался и, послушный Асиной воле, ушел, ни о чем не задумываясь, чтобы никогда не вспомнить потом. А «товарищ» — остался… Ох-хо-хо! вот те и страдания юного Вертера! — взвыл про себя Монахов. — Это что же получается с историей его чистоты и причиненных ему страданий? Ох-хо, Боже, как мы живем! Чего уж тут удивляться на Ленечку-то…