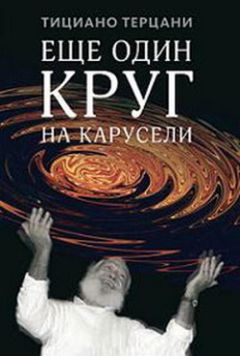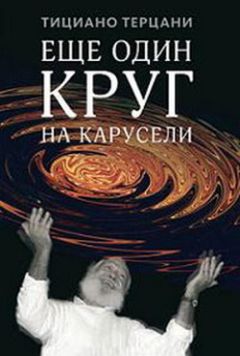Путь к ашраму под разговоры с таксистом, дипломированным математиком, был типично индийским переплетением радости и отчаяния, красоты и убожества. Несколько километров дорога шла через долину. Попадались на пути зловонные кучи мусора и кирпичные заводики, вокруг которых разрослись жутковатые трущобы, а между ними бродили худые, грязные люди. Опаленная солнцем земля была усеяна целлофановыми пакетами. Даже бурьян здесь не рос.
Вдали синели на фоне неба прекрасные холмы Анайкатти. Когда-то все здесь покрывали густые леса. Теперь их осталось совсем немного, но там, по словам таксиста, до сих пор живет племя, которое мастерит себе одежду из листьев и повинуется своему царю… Племя зарабатывает себе на пропитание сбором лесных трав для аптекарей-аюрведистов. Царь — единственный, кто имеет право говорить с чужаками, и если кто-нибудь проникает на земли племени без царского разрешения, его тут же изгоняют. В этих местах, как сказал таксист, до сих пор полно диких зверей. Слонов здесь великое множество. Да и на домашнюю живность тоже стоило посмотреть: то и дело встречались стада красивых буйволов с большими рогами.
Когда мы спустились в долину, таксист показал обширный голый участок земли. Еще совсем недавно здесь был прекрасный лес, который решил купить фонд имени Салима Али, выдающегося орнитолога, для устройства «святилища птиц». Но прежний владелец, едва получив на руки деньги, успел все деревья продать на корню. Эх, Индия!..
Мы проехали мимо колледжа аюрведической медицины и машиностроительного института. Наконец в прекрасной зеленой долине, окруженной скалистыми горами, появился ашрам: несколько белых домиков среди эвкалиптов — корпус для занятий, трапезная и храм на краю большого луга. Надо всем этим возвышался холм, на вершине которого маячил еще один маленький храм.
Тут я был вознагражден за освобождение воробышков. Комната, в которую меня определили, находилась в дальнем корпусе и была одноместной. За корпусом начиналась рощица, из моего окна были видны горы и печь для обжига кирпичей. А перед окнами между двумя деревьями была натянута веревка, на которой я мог сушить одежду.
Привыкнуть к жизни в ашраме и научиться быть Анамом мне не составило никакого труда. Обет молчания меня выручал. Не было соблазна быть втянутым в пустую беседу, не нужно было говорить что-нибудь просто так, к слову. Я мог сосредоточиться, слушать и наблюдать за всем и всеми, позволяя мыслям оставаться мыслями, без необходимости переводить их в речь. Мне было достаточно вечером записать несколько строк в дневнике.
Неделя молчания пролетела мигом — дни были похожи один на другой и подчинялись четкому ритму. И эта размеренность не оставляла места выбору, а следовательно, тоске и тревоге. Все было расписано.
Просыпались мы в четверть пятого. Колотушка била о железный треугольник, и громкий звон нарушал тишину ночи. Через полчаса во Дворе перед столом устанавливали два бидона — с молоком и кипящим чаем. В пять в храме начиналась великая «пуджа» — церемония ритуального омовения статуй под пение мантр. В половине седьмого в аудитории в центре ашрама под руководством Свами начиналась получасовая медитация. В четверть восьмого — завтрак, чаще — турецкий горох. В восемь начинались занятия по изучению Веданты, санскрита, ведического пения и «Бхагавадгиты». Большой перерыв на обед (снова вареный турецкий горох и рис) и еще два коротких перерыва для чаепития. В половине седьмого, когда солнце во всем своем великолепии опускалось за горы, начиналась «арати», — церемония огня. В четверть восьмого ужин — горох с рисом или манная каша, иногда с йогуртом.
В восемь, всегда в большой аудитории, проходил «сатсанг» (буквально это означает «пребывать с правдой»), собрание, на котором каждый мог свободно предложить свою тему для обсуждения. Во время «сатсанга» Свами не находился «за кафедрой», то есть на невысоком помосте, а забирался с ногами в кресло, вокруг которого садились ученики.
В десять железный треугольник звучал вновь. Гас свет, и весь ашрам погружался в темноту, безмолвие, а вскоре и в сон. В этот час, лежа между двумя раскрытыми настежь окнами моей кельи, я наслаждался шелестом и запахами, которые дарил теплый ветер индийской ночи.
Представление «шиша» — всего нас оказалось сто десять человек — длилось целых десять дней и занимало большую часть собраний после ужина. Это помогло мне разобраться, кем были мои товарищи и что за причины привели их в это место, затерянное среди холмов Анайкатти.
Здесь были люди тридцати-сорока лет из благополучных семей, с хорошим образованием; были инженеры, ядерный физик, пилот индийских авиалиний; были университетские преподаватели и лаборанты. Они, уже придерживаясь «брахмачарья», то есть обета безбрачия, и таким образом освободившись от любых телесных желаний, теперь стремились облачиться в шафранные одежды «санньясинов» — аскетов, отказавшихся от мирской жизни и кормящихся подаянием. Через несколько лет, живя здесь и обучаясь, они смогут сами стать «свами», наставниками.
Были здесь и старики с обычной трудовой жизнью за спиной, которые прибыли в ашрам, чтобы свыкнуться с мыслью о смерти, убежденные, что после этой жизни им предстоит прожить следующую, причем необязательно человеческую, чтобы до конца разобраться с накопленным грузом заслуг и проступков — своей кармой.
Другие, в особенности женщины, оказались тут, чтобы наполнить смыслом свою жизнь. В Индии жизнь женщины плотно опутана сетью обрядов и обязанностей, семейных и общественных. Были и работающие женщины, чья профессия, например, врача, оставляла им слишком мало возможностей для чего-нибудь другого, особенно для духовного поиска. Врачей, как я заметил, вообще было довольно много, как будто необходимость заниматься человеческим телом только укрепляла их желание заглянуть за завесу. Примерно то же самое происходило со мной, журналистом, привыкшим иметь дело с фактами.
Некоторые «шиша» прибыли сюда вместо того, чтобы искать помощи у психоаналитиков, которых в Индии немного. Другие — потому, что удалиться от мира — это часть традиции и они ожидали, что с помощью Свами совершат скачок, который позволит им освободиться от вечного круга рождений и смертей.
Это хорошо объяснили, представляясь, несколько «шиша»: директор почты, кардиохирург и еще один господин, элегантный, маленького роста; он приехал в ашрам с женой и говорил от лица обоих. Он был главным педиатром из городка в Андхра-Прадеше, а она заведовала школой медсестер. Обоим было за шестьдесят. После жизни, посвященной работе и семье, они решили «вместе удалиться в лес», как сказано в священных текстах.
Всегда этот «лес»! Лес как хранилище трав — лекарств для тела, лес как место для исцеления души. «Уйти в лес» — старая идея, такая же старая, как сама Индия, идея, которая все еще делает из Индии страну совершенно своеобразную, пока леса еще сохранились.
В соответствии с традиционными индийскими представлениями, жизнь человека четко поделена на четыре различных этапа и у каждого такого «времени года» — свои плоды, права и обязанности.
Первое «время года» — это детство и отрочество, время обучения, когда человек узнает все то, что может ему в жизни понадобиться. Второй этап — это зрелость, когда мужчина становится мужем, отцом, берет на себя ответственность за семью и таким образом способствует поддержанию жизни общества и продолжению рода человеческого. Это период, когда закономерно дать волю таким желаниям, как стремление к достатку, довольству, добиться славы и признания. Затем, когда их дети сами становятся супругами и родителями, приходит время «Удалиться в лес». При помощи этого уединения человек оставляет позади радости, волнения, успехи, разочарования, все то, что преходяще, иллюзорно в жизни, чтобы отдаться чему-то более реальному, более долговечному.
Последний этап — если человек сделал такой выбор — это этап полного отрешения от всего. Став «санньясином», человек живет подаянием. Облачившись в одежды цвета огня — того самого огня, в котором символически сожжено все преходящее, включая и желания, — он стремится к окончательному и бесповоротному освобождению от сансары — от изменчивого мира, от океана жизни и смерти.
Это конечная цель странствия «санньясина», и больше ничто не отвлекает его на этом пути. Он окончательно расстается со своим прошлым, которое символически предается огню, причем будущий «санньясин» сам зажигает «погребальный» костер, чтобы, перепрыгнув через него, выйти обновленным. Теперь он ни к чему больше не привязан, абсолютно ни к чему — ни к касте, ни к семье, ни к имени. Даже к религии с ее ритуалами. Оранжевая туника, в которую он облачается после того мнимого «погребения», изготовлена из одного куска ткани — без швов и узлов. Когда он умрет, тело его бросят в реку, а не сожгут, как это делают с другими покойниками, потому что он, «санньясин», уже прошел сквозь пламя.